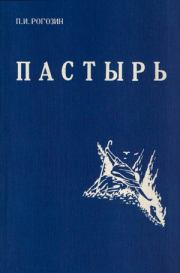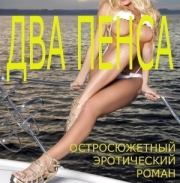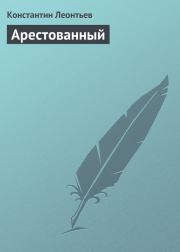Константин Николаевич Леонтьев - Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой
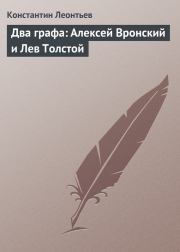 | Название: | Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой |
Автор: | Константин Николаевич Леонтьев | |
Жанр: | Критика | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой"
«…Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился, я говорю все-таки, он же – Лев Толстой – и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта – Алексея Кирилловича Вронского.
О Вронском-то я и хочу поговорить подробнее и, между прочим, о том, почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого.
Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации…»
Читаем онлайн "Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой". [Страница - 5]
Из этого серого мрака едва-едва высвобождаются (и то не вдруг, а постепенно) – где Тургенев с честным Лаврецким и энтузиастом Рудиным; где Писемский с благородным масоном своим и привлекательными «людьми 40-х годов»; где Гончаров не с Обломовым, конечно (ибо Обломов это тот же Тентетников «Мертвых душ» – только удачнее и симпатичнее исполненный), а скорее уже с бессильным, но тонким и умным Райским. Где – Достоевский с несколько бледным и далеким сиянием христианского креста над клоакой окровавленного гноища; а где и сам Толстой в своих первоначальных повестях, как односторонний, еще тогда не слишком самобытный поклонник чрез меру потом прославленных «простых и скромных» русских людей.
Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился, я говорю все-таки, он же – Лев Толстой – и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта – Алексея Кирилловича Вронского.
О Вронском-то я и хочу поговорить подробнее и, между прочим, о том, почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого.
Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации.
Роман «Анна Каренина» имеет в себе такое множество достоинств самого высшего разбора, что о нем стоит написать целую особую книгу, и даже большую, как и сделал недавно умерший молодой и даровитый критик Громека (Последние произведения гр. Л. Н. Толстого. Москва, 1885 г.).
Я не могу этим заняться; и если бы мог, то, конечно, заключения мои были бы совсем иные, чем у Громеки. Во многих отношениях они были бы даже совсем противоположны. <…>
У него Вронский назван «бессодержательным» человеком; а на Левина он смотрит как на некоего благодатного старца, который может нам открыть даже и то, чего желает сам Бог!
«Раскройте нам тайны открывающейся вам новой, величайшей области прекрасного! Говорите о Боге, о том, какие законы оставил Он нам и как их нам можно исполнить «…
Вот что восклицает под конец своего эпилога молодой и восторженный критик! Левину присваивается какая-то уже не только умственная или нравственная, но и мистическая сила. Его изъяснение Закона Божия – есть новый катехизис, пожалуй даже и улучшенное, очищенное Евангелие.
Да, можно сказать, «не поздоровится (духовно) от этаких похвал!»
Легко Левину забыться, слыша подобные возгласы, и счесть себя действительно священным сосудом нового откровения!
«Едва обретается человек, могий терпети честь (то есть принимать почести, не повреждаясь от гордости), негли же (а может быть) и отнюдь не обретается!» – говорит Исаак Сирийский в самом начале своего глубокомысленного творения «Слова духовно-подвижнические».
Но оставим пока Левина с его нравственными немощами (а по предлагаемому мною эпилогу – и с религиозными преступления ми) и обратимся к самому создателю его характера – графу Толстому, к великим его эстетическим достоинствам, и даже к политическим (быть может, и нечаянным) заслугам его, в двух больших его сочинениях – «Войне и мире» и «Карениной».
Трудно решить, который из этих романов художественно выше и который политически полезнее.
И тот и другой во всем так прекрасны; и тот и другой – хотя и не во всем, но во многом так полезны, что не знаешь, которому отдать предпочтение во всецелости его.
Я невольно останавливаюсь беспрестанно, и мысль моя, подавленная обилием разнообразных достоинств Толстого в этих трудах, недоумевает, с чего начинать!..
Положим – с эпохи. Великое время народной войны, эпоха, неизгладимая из памяти русской… Конечно, задача выше, содержание в этом смысле грандиознее, чем в «Карениной».
Так; но зато второй роман ближе к нам, и потому его красоты могут иметь на нас, современников, более прямое влияние. Хорошо чертами в одно и то же время крайне реальными, внушающими полное доверие, и чувствами идеальными, нас возбуждающими к лучшему, увековечить в памяти потомства годину всенародного героизма; но чрезвычайно похвально и современнее нам высшее русское общество изобразить наконец-то по-человечески, то есть беспристрастно, а местами и с явной любовью… Как не ценить этого после того, как в течение целых тридцати и более лет никто не мог, --">Книги схожие с «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» по жанру, серии, автору или названию:
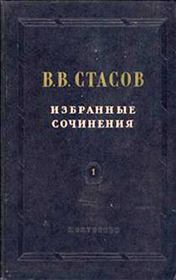 |
| Владимир Васильевич Стасов - Слово современника в ответ на два изречения цукунфтистов Жанр: Критика Год издания: 1952 Серия: Музыкальная критика |
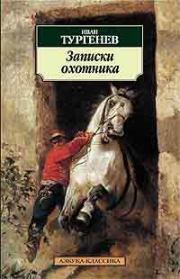 |
| Иван Сергеевич Тургенев - Два помещика Жанр: Русская классическая проза Год издания: 1977 |
Другие книги автора «Константин Леонтьев»:
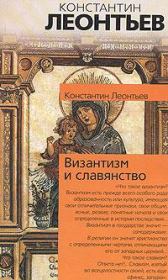 |
| Константин Николаевич Леонтьев - Еще о греко-болгарской распре Жанр: Философия Год издания: 2007 Серия: Философия. Психология |
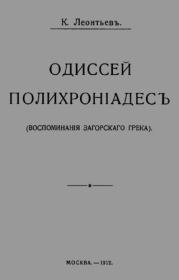 |
| Константин Николаевич Леонтьев - Одиссей Полихроніадесъ Жанр: Русская классическая проза Год издания: 1912 |