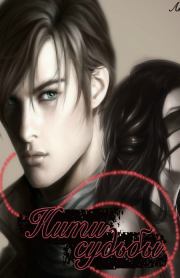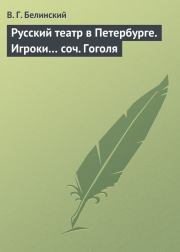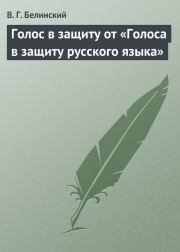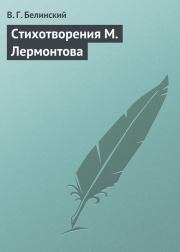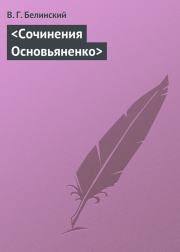Виссарион Григорьевич Белинский - Русский театр в Петербурге
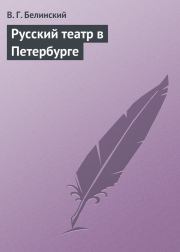 | Название: | Русский театр в Петербурге |
Автор: | Виссарион Григорьевич Белинский | |
Жанр: | Критика | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Русский театр в Петербурге"
Перу Белинского принадлежит свыше 100 статей, рецензий и заметок о театре. Он подчеркивал: «Театральная хроника» необходима в журнале как дополнение к «Библиографической хронике». Считая театр «источником народного образования», так как он позволяет «видеть на сцене всю Русь с ее добром и злом, с ее высоким и смешным». Белинский дает, по сути дела, общую характеристику русской драматургии 1840-х гг.
Читаем онлайн "Русский театр в Петербурге". [Страница - 2]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (9) »
Они разделяются на три рода: 1) пьесы, переведенные с французского, 2) пьесы, переделанные с французского, 3) пьесы оригинальные. О первых прежде всего должно сказать, что они, большею частию, неудачно переводятся, особенно водевили. Водевиль есть любимое дитя французской национальности, французской жизни, фантазии, французского юмора и остроумия. Он непереводим, как русская народная песня, как басня Крылова{3}. Наши переводчики французских водевилей переводят слова, оставляя в подлиннике жизнь, остроумие и грацию. Остроты их тяжелы, каламбуры вытянуты за уши, шутки и намеки отзываются духом чиновников пятнадцатого класса. Сверх того, для сцены эти переводы еще и потому не находка, что наши актеры, играя французов, назло себе остаются русскими, – точно так же, как французские актеры, играя «Ревизора», назло себе остались бы французами. Вообще, водевиль – прекрасная вещь только на французском языке, на французской сцене, при игре французских актеров. Подражать ему так же нельзя, как и переводить его. Водевиль русский, немецкий, английский – всегда останется пародиею на французский водевиль. Недавно в какой-то газете русской было возвещено, что пока-де наш водевиль подражал французскому, он никуда не годился; а как-де скоро стал на собственные ноги, то вышел из него молодец хоть куда – почище и французского. Может быть, это и так, только, признаемся, если нам случалось видеть русский водевиль, который ходил на собственных ногах, то он всегда ходил на кривых ногах, и, глядя на него, мы невольно вспоминали эти стихи из русской народной песни:
Ах, ножища-то – что вилища!
Ручища-то – что граблища!
Головища – что пивной котел!
Глазища-то – что ямища!
Губища-то – что палчища!{4}
Русские переделки с французского нынче в большом ходу: большая часть современного репертуара состоит из них. Причина их размножения очевидна: публика равнодушна к переводным пьесам; она требует оригинальных, требует на сцене русской жизни, быта русского общества. Наши доморощенные драматурги на выдумки бедненьки, на сюжетцы неизобретательны: что ж тут остается делать? Разумеется, взять французскую пьесу, перевести ее слово в слово, действие (которое, по своей сущности, могло случиться только во Франции) перенести в Саратовскую губернию или в Петербург, французские имена действующих лиц переменить на русские, из префекта сделать начальника отделения, из аббата – семинариста, из блестящей светской дамы – барыню, из гризетки – горничную, и т. д. Об оригинальных пьесах нечего и говорить. В переделках по крайней мере бывает содержание – завязка, узел и развязка; оригинальные пьесы хорошо обходятся и без этой излишней принадлежности драматического сочинения. Как те, так и другие и знать не хотят, что драма, – какая бы она ни была, а тем более драма из жизни современного общества, – прежде всего и больше всего должна быть верным зеркалом современной жизни, современного общества. Когда наш драматург хочет выстрелить в вас, – становитесь именно на то место, куда он целит: непременно даст промаха, а в противном случае – чего доброго, пожалуй, и зацепит. Общество, изображаемое нашими драмами, так же похоже на русское общество, как и на арабское. Какого бы рода и содержания ни была пьеса, какое бы общество ни рисовала она – высшего круга, помещичье, чиновничье, купеческое, мужицкое, что бы ни было местом ее действия – салон, харчевня, площадь, шкуна, – содержание ее всегда одно и то же: у дураков-родителей есть милая, образованная дочка; она влюблена в прелестного молодого человека, но бедного – обыкновенно в офицера, изредка (для разнообразия) в чиновника; а ее хотят выдать за какого-нибудь дурака, чудака, подлеца или за все это вместе. Или, наоборот, у честолюбивых родителей есть сын – идеал молодого человека (то есть лицо бесцветное, бесхарактерное), он влюблен в дочь бедных, но благородных родителей, идеал всех добродетелей, какие только могут уместиться в водевиле, образец всякого совершенства, которое бывает везде, кроме действительности; а его хотят выдать замуж – то есть женить, на той, которой он не любит. Но к концу добродетель --">- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (9) »
Книги схожие с «Русский театр в Петербурге» по жанру, серии, автору или названию:
 |
| Виссарион Григорьевич Белинский - «Горе от ума». Комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочинение А.С. Грибоедова Жанр: Классическая проза |
Другие книги автора «Виссарион Белинский»:
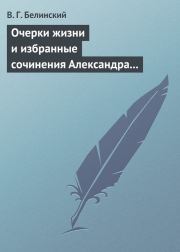 |
| Виссарион Григорьевич Белинский - Очерки жизни и избранные сочинения Александра Петровича Сумарокова, изданные Сергеем Глинкою… Части... Жанр: Классическая проза |
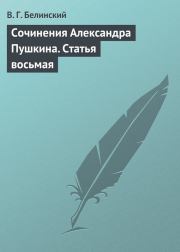 |
| Виссарион Григорьевич Белинский - Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая Жанр: Классическая проза |
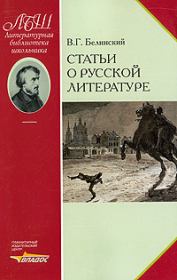 |
| Виссарион Григорьевич Белинский - Статьи о русской литературе Жанр: Критика Год издания: 2008 |