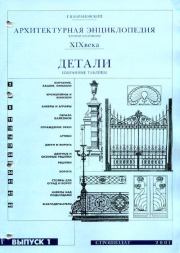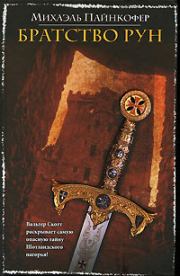Коллектив авторов , Любовь Александровна Мостова - Антология исследований культуры. Символическое поле культуры
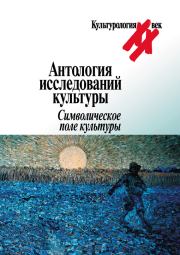 | Название: | Антология исследований культуры. Символическое поле культуры |
Автор: | Коллектив авторов , Любовь Александровна Мостова | |
Жанр: | Культурология и этнография | |
Изадано в серии: | Культурология. xx век | |
Издательство: | Издательство «Центр гуманитарных инициатив» | |
Год издания: | 2011 | |
ISBN: | 978-5-98712-077-4 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Антология исследований культуры. Символическое поле культуры"
Антология составлена талантливым культурологом Л.А. Мостовой (3.02.1949–30.12.2000), внесшей свой вклад в развитие культурологии. Книга знакомит читателя с антропологической традицией изучения культуры, в ней представлены переводы оригинальных текстов Э. Уоллеса, Р. Линтона, А. Хэллоуэла, Г. Бейтсона, Л. Уайта, Б. Уорфа, Д. Аберле, А. Мартине, Р. Нидхэма, Дж. Гринберга, раскрывающие ключевые проблемы культурологии: понятие культуры, концепцию науки о культуре, типологию и динамику культуры и методы ее интерпретации, символическое поле культуры, личность в пространстве культуры, язык и культурная реальность, исследование мифологии и фольклора, сакральное в культуре.
Широкий круг освещаемых в данном издании проблем способен обеспечить более высокий уровень культурологических исследований.
Издание адресовано преподавателям, аспирантам, студентам, всем, интересующимся проблемами культуры.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: сборник статей,межкультурное общение,история культуры,развитие цивилизации,научные исследования,философия культуры
Читаем онлайн "Антология исследований культуры. Символическое поле культуры" (ознакомительный отрывок). [Страница - 3]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (7) »
Между тем, хотя защита «культурной выборки» логически небезупречна, с ней связано еще одно суждение, имеющее свои собственные достоинства, не зависящие от его статуса в этой аргументации (в которой у него есть свои как сильные, так и слабые стороны). Этим оборонительным аргументом является само понятие «образца» (pattern). В литературе, посвященной культуре-и-личности, «образец» имеет, по крайней мере, два смысла: один, в котором он понимается как синхронический комплекс, общий для разных репрезентаций, и другой, в котором он представляется как диахронический комплекс, общий для разных последовательностей. Образец – это, разумеется, такой класс феноменов, который допускает множество подклассов, и эти подклассы сами по себе интересны; однако идентичность его как опознаваемого класса не может быть поставлена под вопрос просто в силу того, что он содержит подклассы. Сила понятия образца как аргумента в защиту микрокосмического взгляда состоит в том, что существование образца невозможно отрицать, просто настаивая на различении и вычислении частот его подклассов. Слабой же его стороной является слабость, вообще присущая старому сравнительному методу: аналитик с необыкновенной легкостью может брать кусочек отсюда, лоскуток оттуда и, пользуясь такими методами, как «соединение концов» и «резонансный» анализ (Mead and Metraux, 1953), интуитивно связывать их в некий образец, место существования которого так и остается не определенным. Старые культурные эволюционисты, как уже неоднократно говорилось, запросто могли взять обычай из этого племени, легенду из того и, терпеливо подогнав такие кусочки и обрезки друг к другу, сконструировать культурный образец («стадию» эволюции культуры), который, возможно, никогда и нигде не существовал и уж точно не был частью наследия всех известных культур. Аналитики образцов, работающие в сфере изучения культуры-и-личности, склонны брать детское воспоминание у этого информатора, невротическую фобию у другого, добавлять к ним тему из кинофильма, историю какого-нибудь международного инцидента и, умело маневрируя кусочками, создавать «образец», который невозможно обнаружить ни в одном индивиде, но зато можно приписать всем. Ущербность этой процедуры вытекает не из недостаточной полноты наблюдений, на которых она базируется, и не из недостаточной надежности процессов комбинирования элементов с целью сформирования образцов, а из того поп sequitur4*, посредством которого такой образец приписывается не исследованным (а иногда, как это было в случае с алорцами, даже и исследованным) индивидам en masse5*.
Существует параллельная традиция, которая идет в большей степени от Сепира (Mandelbaum (ed.), 1949) и Халлоуэла (1955), нежели от Мид и Рохейма, и которая частично избегает опасных ловушек микрокосмической метафоры, придавая большую значимость уникальности индивида. Сепир пребывал под впечатлением того факта, что индивидуальные информанты давали разную информацию и ни один информант не знал всей культуры в целом. «Две-Вороны отрицает это» означало для Сепира, что Две-Вороны «имел» иную культуру, нежели другой информант, а также, вероятно, соответственно и иную личность (Mandelbaum, 1949). Спиро (1951) аналогичным образом подчеркивал уникальность партикулярных семейных и индивидуальных культур, каждая из которых рассматривалась им как продукт особой истории социального взаимодействия причастных к ней индивидов. Однако логическим следствием этой линии рассуждения становится еще один тупик: несмотря на более полное признание индивидуальных различий, культура, --">- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (7) »
Книги схожие с «Антология исследований культуры. Символическое поле культуры» по жанру, серии, автору или названию:
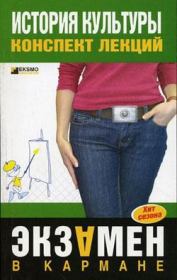 |
| М А Дорохова - История культуры: конспект лекций Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2008 |
 |
| Коллектив авторов, Светлана Яковлевна Левит - Гуманитарное знание и вызовы времени Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2014 Серия: humanitas |
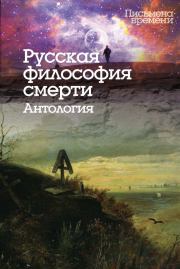 |
| Коллектив авторов, Константин Глебович Исупов - Русская философия смерти. Антология Жанр: Философия Год издания: 2014 Серия: Письмена времени |
Другие книги автора « Коллектив авторов»:
 |
| Коллектив авторов - 1999-2009: Демократизация России. Хроника политической преемственности Жанр: Политика и дипломатия Год издания: 2010 |
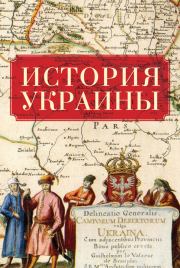 |
| Коллектив авторов - История Украины Жанр: История: прочее Год издания: 2015 |
 |
| Коллектив авторов - Я получил сову! Фанбук по волшебному миру Гарри Поттера Жанр: Детская литература: прочее Серия: Гарри Поттер. Fanbook |