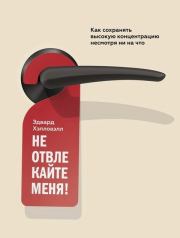Вячеслав Евгеньевич Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]
![Обложка книги - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]. Вячеслав Евгеньевич Демидов - КнигаГо Книга - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]. Вячеслав Евгеньевич Демидов - прочитать полностью в библиотеке КнигаГо](/i/31/298931/custom_big_298931.jpg) | Название: | Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] |
Автор: | Вячеслав Евгеньевич Демидов | |
Жанр: | Биология | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | НиТ. Раритетные издания | |
Год издания: | 2010 | |
ISBN: | 978-5-458-23009-4 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]". [Страница - 4]
Три века (уже четыре! – В.Д., 2010) назад английский философ-просветитель Джон Локк написал книгу «Опыт о человеческом разуме». Он работал над ней почти 20 лет. Он провозгласил в ней убежденно и безоговорочно: «В душе нет врожденных идей!» Человеческий мозг, утверждал он, это «чистая табличка», на которой чертит свои узоры мир, воспринимаемый органами чувств. Опыт – вот наш учитель. Нет ничего выше опыта и ничего, что могло бы его заменить. Так учил Локк.
Далек предмет или близок, большой он или маленький – это можно узнать не созерцанием, а только опытом: подойти, измерить, ощупать рукой...
На рубеже XVIII – XIX вв. эту позицию отстаивал Вильгельм фон Гумбольдт, знаменитый немецкий лингвист и просветитель, которым, как и его не менее знаменитым братом Александром, гордится мировая наука. Вильгельм фон Гумбольдт писал: «Рассмотренный непосредственно и сам по себе глаз мог бы воспринимать только границы между различными цветовыми пятнами, а не очертания различных предметов. К определению последних можно прийти либо с помощью осязающей, ощупывающей пространственное тело руки, либо через движение, при котором один предмет отделяется от другого». Ученому казалось, что у зрения непременно обязан быть учитель, и им объявлялась деятельность иных органов чувств, которым почему-то позволено было не нуждаться в учителях... Некоторые исследователи продолжают отстаивать подобную точку зрения по сию пору.
Слов нет, чтобы всесторонне познавать окружающий мир, необходимо то, что философы называют практикой, но практика вовсе не сводится к одному осязанию или механическим движениям руки. «Чистой пластинки» мало, чтобы воспринимать сигналы органов чувств, нужно еще, чтобы эта пластинка была способна к восприятию, соответствующим образом организована. И не случайно, возражая Локку, его современник, великий немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц, говорил, что да, верно, все доставлено разуму органами чувств, за исключением самого разума. А в организации разума центральную роль играет зрение, для своей работы вовсе не нуждающееся в помощи иных источников информации (хотя и не отказывающееся от нее).
Вот, например, птицы: способность различать и узнавать дана им от рождения. Однодневные цыплята, у которых не было времени обучаться, клюют шарики вдесятеро чаще, нежели насыпанные рядом пирамидки, а кружочки всегда предпочитают треугольникам. Если же приходится выбирать между шариком и кружком, без колебаний обращают самое пристальное внимание на объемную фигуру и игнорируют рисунок. Словом, для них самое интересное то, что напоминает пищу.
Мы называем способность клевать, едва появившись на свет, инстинктом. А способность разобраться, что именно следует клевать, – тоже инстинкт? Пусть так. Но гораздо важнее, что зрительный аппарат цыпленка буквально сразу же проявляет свою способность опознавать круглое, объемное, отличать эту жизненно важную форму от иных.
Но только ли пища – наследственное знание? Экспериментатор переходит от цыплят к птенцам серебристой чайки. В гнезде их кормит заботливая мамаша. И во время опыта детеныш клюет чаще всего предметы, напоминающие формой мамин клюв!
Но может быть, мы в обоих случаях встречаемся с какой-то особой формой различения предметов, скажем, с настройкой зрения на восприятие лишь того, что находится буквально под носом? Супруги Милн приводят в своей книге «Чувства животных и человека» такой факт: однодневные цыплята безошибочно отличают летящую в вышине утку от ястреба, хотя --">Книги схожие с «Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]» по жанру, серии, автору или названию:
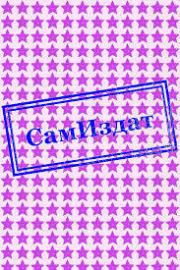 |
| Юрий Иванович Гребенченко - Касты в российском обществе: положение дел и рекомендации Правительству (СИ) Жанр: Биология |
 |
| Юрий Иванович Гпебенченко - Информационная война масонов, масонских символов и ритуалов - против Человечества (СИ) Жанр: Биология |
Другие книги автора «Вячеслав Демидов»:
![Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]. Вячеслав Евгеньевич Демидов](/i/31/298931/custom_big_298931.jpg) |
| Вячеслав Евгеньевич Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] Жанр: Биология Год издания: 2010 |
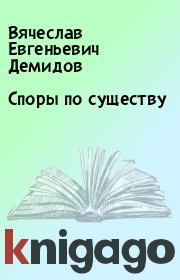 |
| Вячеслав Евгеньевич Демидов - Споры по существу Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2013 |
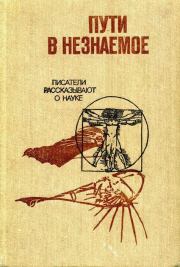 |
| Натан Яковлевич Эйдельман, Даниил Семенович Данин, Петр Иосифович Капица и др. - Пути в незнаемое. Сборник двадцатый Жанр: Научная литература Год издания: 1986 |
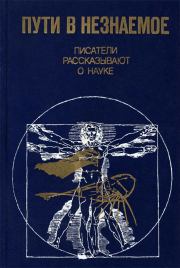 |
| Анатолий Сергеевич Онегов, Даниил Семенович Данин, Вячеслав Иванович Пальман и др. - Пути в незнаемое Жанр: Научная литература Год издания: 1983 Серия: Антология |

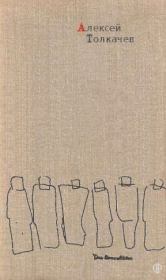
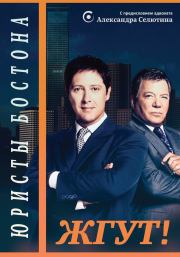
![Книгаго, чтение книги «Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]» [Картинка № 5] Книгаго: Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]. Иллюстрация № 5](/icl/i/31/298931/img3dd.png)
![Книгаго, чтение книги «Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]» [Картинка № 6] Книгаго: Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]. Иллюстрация № 6](/icl/i/31/298931/img7fc4.png)