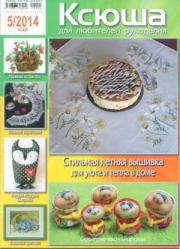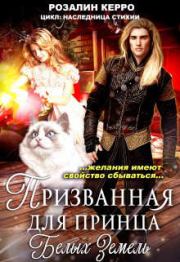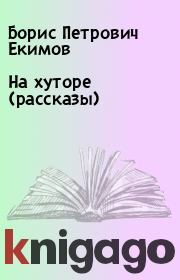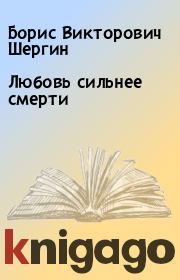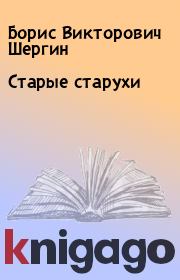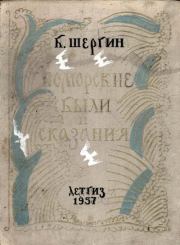Борис Викторович Шергин - Повести и рассказы
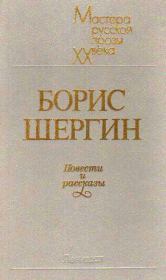 | Название: | Повести и рассказы |
Автор: | Борис Викторович Шергин | |
Жанр: | Русская классическая проза, Авторские сборники, собрания сочинений | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Лениздат | |
Год издания: | 1984 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Повести и рассказы"
В однотомнике широко представлено творчество замечательного советского писателя Б. В. Шергина (1893—1973). В книгу включены повести и рассказы, были, сказы и сказки, дневниковые записи писателя.
Читаем онлайн "Повести и рассказы". [Страница - 202]
Это состояние ощущалось Шергиным не как воображаемое, а как реальное чувство, при котором человек «отнюдь не выходит из себя, но приходит в себя». Но достигается оно не ради себя самого. Конечный результат его для Шергина – это образ, выражающий народное представление об истоках красоты. «От этой радости, – писал он, – художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло». Радость художника и определила эмоциональный «климат» творчества Шергина. «Не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного» -так по-народному лирично обозначен этот сквозной мотив в его произведениях. Поэтому он не анализирует, а целостно постигает народные характеры, как неразложимый образ, и ему бывает достаточно для «радостного извещения» о скрытой талантливости мастеровитого человека одного характерного жеста, осанки, поворота головы или глубокой власти взгляда («Мастер Молчан», «Соль»). Даже самые впечатляющие события из жизни героев воспринимаются как разные грани единой доброй нравственной сути художных мастеров: великий подвиг кормщика из сострадания к бедствующему человеку («Гость с Двины»), побуждающий последнего воскликнуть: «Человек ты или ангел? От сотворения мира не слыхана такая великая и богатая милость!»; и исповедальный рассказ мастера о тайнах своего ремесла, дабы послужить «к пользе и удовлетворению таковых любителей» («Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание», «Разговоры Вобрецова с учениками»); и свидетельства трогательной заботы о преемственности художества, о тех, кто унаследует «знанье и уменье» («Ушаков и Яков Койденский», «Кондратий Тарара»); и живые картины, где мастер овеян мнением народным («Ничтожный срок», «Для увеселенья»), и многое другое.
Но чаще Шергин раскрывает создаваемые им характеры не в разветвлениях эволюции, а в каком-либо едином акте («Государи-кормщики»). Обнаружение коренного и вечного в художнике Шергин обставляет порой наиболее серьезными, катастрофическими обстоятельствами, в которых испытывает нравственную суть мастера до предела («Для увеселенья», «Кроткая вода», «В относе морском»).
Непоправимая беда настигла братьев Личутиных («Для увеселенья») на промыслах. Внезапно налетевший шторм сорвал с якорей их карбас, унес безвестно куда, и братья остались одни на островке, лежащем далеко в стороне от расхожих морских путей. Эти два мужика – «мезенские мещане по званью, были вдохновенные художники по призванью». И даже перед ликом смерти они распознали в самих себе невидимое и вечное, цветок всего «жития» своего – сердечное веселье, душевную крепость – и овеществили его в эпитафии себе, которую вырезали промысловыми ножами на сосновой доске – столешнице. И сделали это с таким «изяществом вкуса», что простая столешница превратилась в произведение искусства.
«Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косой, братья видят ее – и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах». Радость, излучаемая этой эпитафией, принимается сердцем рассказчика, закипающими слезами, когда он читает прощальное слово художника на безлюдном острове под аккомпанемент задумавшейся природы.
Разговор о душевном состоянии, которым проникнута вся народная культура, потому так захватывает и волнует, что он преподнесен у Шергина не отвлеченно, а всегда конкретно, связан с реальным, строго достоверным, даже документированным событием. Это быль. Шергин или называет точную дату изображаемого факта («Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания»), или иным способом («Это было давно, когда я учился в школе») всегда указывает на невымышленность факта, закрепляет подлинные имена участников происшествия, названия местности, села или посада, где оно происходило.
И хотя все воспроизводилось Шергиным в полном соответствии с действительностью, он без колебания отсеивал из разнообразия натуры все, что могло в какой-то мере теснить художественный смысл рассказа, отвлекая внимание от его существа. Шергин очень дорожил цельным, единым впечатлением, сразу схватывающим суть дела. Он неуклонно следовал эстетическому завету древнерусской народной культуры, стремясь «в немногие словеса вложить мног разум», и писал чаще всего небольшие по своим размерам рассказы, нередко миниатюры, напоминающие собою стихотворения в прозе («Художество», --">Книги схожие с «Повести и рассказы» по жанру, серии, автору или названию:
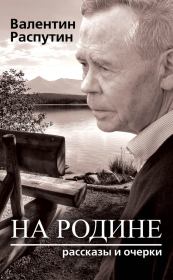 |
| Валентин Григорьевич Распутин - На родине. Рассказы и очерки Жанр: Современная проза Год издания: 2015 |
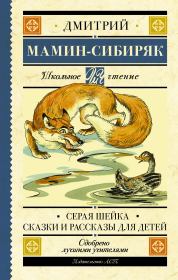 |
| Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк - Серая Шейка. Сказки и рассказы для детей Жанр: Русская классическая проза Год издания: 2018 Серия: Школьное чтение |
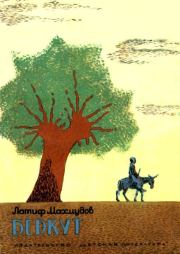 |
| Латиф Махмудов - Беркут (Рассказы) Жанр: Детская проза Год издания: 1975 |
Другие книги автора «Борис Шергин»:
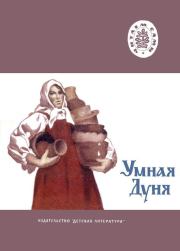 |
| Лев Николаевич Толстой, Александр Николаевич Афанасьев, Константин Дмитриевич Ушинский и др. - Умная Дуня Жанр: Сказки для детей Год издания: 1978 Серия: Читаем сами |