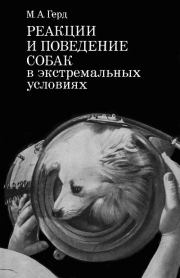Виктор Мирославович Гуминский - Непрерывность жизни духа
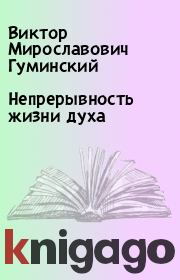 | Название: | Непрерывность жизни духа |
Автор: | Виктор Мирославович Гуминский | |
Жанр: | Биографии и Мемуары, Религия | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Новый Ключ | |
Год издания: | 2011 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Непрерывность жизни духа"
Виктор Гуминский "К 70-летию Валерия Николаевича Сергеева"
Читаем онлайн "Непрерывность жизни духа". [Страница - 4]
И, конечно, на ней же расцвел и один из главных талантов Валерия Николаевича Сергеева — дар слова. Хочется думать, что учеба на филологическом факультете МГУ отточила, огранила это дарование. Пусть старославянский язык преподавался нам узко лингвистически, даже формалистически, во многом в отрыве от насквозь православной древнерусской литературы (она читалась особо) и, уж тем более, от богослужебных текстов. Но это был церковнославянский язык, о котором Пушкин писал, что “как материал словесности” он “имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими”. Блестящую историческую характеристику, данную поэтом родному языку, нельзя не продолжить. “В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты; величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя, таким образом, от медленных усовершенствований времени”. Далее Пушкин делает уже вполне практический вывод: “Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей”. Этой стихией русского языка В. Н. Сергеев владеет в совершенстве.
Не случайно одной из главных тем его научных штудий стало “изображенное слово”. Следует ли напоминать, что вся христианская культура логоцент-рична, словоцентрична. Слово на иконе — канонически необходимо. В. Н. Сергеев посвятил надписям на иконах ряд исследований, в частности, академически выверенную статью “Духовный стих “Плач Адама” на иконе”, напечатанную в 1971 г. в авторитетных Трудах отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома). Очевидной данностью для автора было неразрывное единство древнерусского искусства, культуры: архитектуры, иконописи, литературы, музыки, богословия. Этим он отличался от коллег-искусствоведов, во главу угла ставивших рассмотрение стилистических, колористических и пр. живописных особенностей иконы. Ведь “Плач Адама” не только изображался на двери в жертвенник конца XVI — начала XVII в. из церкви с. Семеновского Пушкинского района Московской области, но и пелся во время чина прощения монахов в неделю сыропустную после вечерни в Троице-Сергиевом монастыре. Исследователь тщательно проанализировал даже мелодию этого покаянного стиха. По близкой проблематике ученый спустя некоторое время читал и спецкурс на филологическом факультете МГУ.
Для В. Н. Сергеева икона — это, в первую очередь, “окно к первообразу”, согласно известному святоотеческому определению. И уже отсюда, из “чистой духовности”, проистекало ее материальное, определяемое высшей сутью воплощение: композиционные особенности, цвет, колорит, стиль и т. п. Раскрытие смысла церковного искусства через православное предание — вот, на мой взгляд, в чем состояло существо научной деятельности В. Н. Сергеева.
Это проявилось в “Путеводителе” по Рублевскому музею, написанному В. Н. Сергеевым в соавторстве с Л. М. Евсеевой (М., 1971). Еще в большей степени такой принципиально новый подход должен был лечь в основу каталога иконописи музейного собрания, проект которого, по инициативе Валерия Николаевича, начал разрабатываться и обсуждаться в те же годы, но так и остался не осуществленным, как принято говорить, по не зависящим от автора причинам.
Но, пожалуй, в самой полной мере (при всех ограничениях, налагаемых эпохой) автор продемонстрировал подобное понимание древнерусского искусства в своей главной книге — “Рублеве”, вышедшей в 1981 г. в серии “ЖЗЛ”. Рецензию на эту книгу, напечатанную в одном из московских “толстых” журналов, я назвал “Время собирать камни”. И, действительно, буквально по камушкам В. Н. Сергеев собрал в книге все, что было известно о великом иконописце. Исследователь обобщил материалы и наблюдения, содержащиеся к тому времени в уже достаточно многочисленных научных трудах; подробно рассмотрел духовную и государственную жизнь “светлой, героической эпохи, времени национального подъема Руси, ее воли к единству”. Но главным было стремление увидеть за цепочкой исторических событий, за немногими --">Книги схожие с «Непрерывность жизни духа» по жанру, серии, автору или названию:
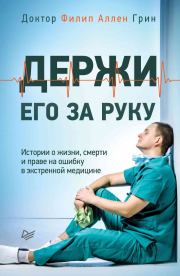 |
| Филип Аллен Грин - Держи его за руку. Истории о жизни, смерти и праве на ошибку в экстренной медицине Жанр: Современная проза Год издания: 2019 |
 |
| Брюс Грейсон - После. Что околосмертный опыт может рассказать нам о жизни, смерти и том, что будет после Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2021 Серия: Жизнь после жизни |
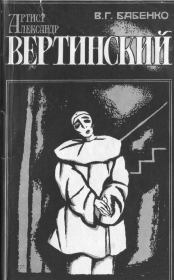 |
| Владимир Гаврилович Бабенко - Артист Александр Вертинский. Материалы к биографии. Размышления Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 1989 |
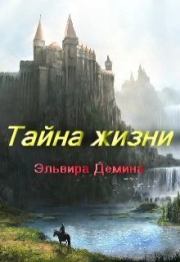 |
| Эльвира Демина - Тайна жизни (СИ) Жанр: Боевая фантастика Год издания: 2017 |