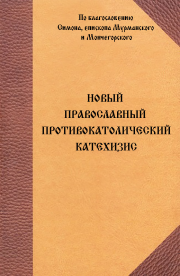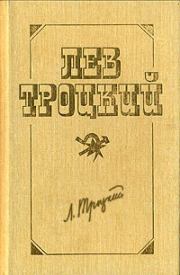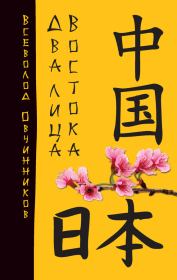Александр Рубашкин - Ждановщина
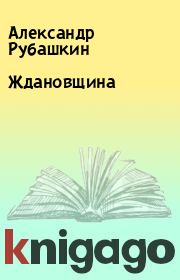 | Название: | Ждановщина |
Автор: | Александр Рубашкин | |
Жанр: | Публицистика | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | 2006 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Ждановщина"
К 60-летию постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“»
Читаем онлайн "Ждановщина". [Страница - 2]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (19) »
Известный ленинградский писатель М. Л. Слонимский, неизбежно попавший в ленинградскую обойму как старый друг Зощенко, потерял в северной столице всякую возможность заработка, вынужден был уехать в Москву, где оказался не столь заметен и какую-то работу получал. Так и жил вдали от семьи несколько лет…
1946 год… Идет Парижская мирная конференция, продолжается процесс над главными военными преступниками в Нюрнберге… А в СССР одна идеологическая кампания нагоняет и погоняет другую. Еще критики, получившие задание по долгу партийного сердца клеймить чужаков в опаршивевшем литературном стаде, не дописали свои фельетоны, а уже вышло постановление неугомонного ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 года «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». На этот раз заметные авторы, вроде Николая Погодина с его «Кремлевскими курантами», остались в тени, и партийный утюг прошелся по А. Гладкову, А. Штейну, Г. Ягфельду (не забыты, само собой, и «злопыхательские пьесы» Зощенко «Парусиновый портфель» и «Очень приятно»)…
По всему видно, что это постановление готовилось в спешке и главных фигур проработки заранее не выпестовало. Недаром в статье «Драматургия, театр, жизнь» («Правда», 22 ноября 1946) Константин Симонов заявил: «Мы все упомянуты в постановлении, даже если там нет наших имен».
И он был прав. Никто отныне и во веки веков чувствовать себя защищенным права не имел.
Завершилась идеологическая «серия» 1946 года 4 сентября – постановлением «О кинофильме „Большая жизнь“». Но и здесь дело было не в этом, теперь забытом, фильме, тем паче обруганной его второй серии, на экраны тогда так и не вышедшей (режиссер Л. Д. Луков, сценарист П. Ф. Нилин). Речь шла о художнике мирового уровня – Сергее Эйзенштейне. Творец революционного «Броненосца „Потемкина“», патриотического «Александра Невского», державной первой серии «Ивана Грозного» получил за свой гений сполна:
«С. Эйзенштейн во второй серии „Ивана Грозного“ обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников в виде шайки дегенератов (чувствуется почерк! – А. Р.), наподобие американского ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета».
Новых фильмов Эйзенштейна зрители больше не увидели, но сам он еще услышал – за день до смерти, что, скорее всего, ее и ускорило, – как поносят великих композиторов ХХ века: Сергея Прокофьева, писавшего музыку к его фильмам, и Дмитрия Шостаковича.
Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года называлось «Об опере В. Мурадели „Великая дружба“». Опять же в заглавие вынесен автор, скажем так, не первого ряда. Не в нем одном, разумеется, и суть. Дело было в настоящих величинах (к ним еще были причислены Николай Мясковский и Виссарион Шебалин), тех, кто «вместо того, чтобы развивать в советской музыке реалистическое направление, по сути дела поощряли формалистическое направление, чуждое советскому народу». (Умопомрачительная тонкость: в отличие от Ахматовой и Зощенко, композиторы в тексте постановления не лишены инициалов, в чем нужно видеть некоторую к ним долю снисхождения.)
Конечно, ошельмованные деятели культуры, особенно главные фигуры – независимо от рода творческих занятий – могли ожидать и физической расправы. Об этой практике в Кремле не забывали никогда (как, например, в случае, с великим актером и режиссером Соломоном Михоэлсом). В 1946 году тоже неплохо получалось: «вычеркнуть» людей из всех списков, включая списки на продовольственные карточки, – и делу конец.
Что ж говорить об остальных гражданах. Новые потоки репрессированных после войны струились из всех слоев общества: бывшие военнопленные, «повторники» (то есть вновь арестованные после окончания сроков), «космополиты» (в том числе видные члены Еврейского антифашистского комитета), далее жертвы «Ленинградского дела»…
Но и этого мало. Обратим внимание, как внимательна была власть к любому малейшему несогласию с духом и буквой сталинско-ждановской «промывки мозгов».
7 сентября 1946 года коммунисты ленинградского завода «Электросила» обсуждали на своем партийном собрании постановление ЦК --">- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (19) »
Книги схожие с «Ждановщина» по жанру, серии, автору или названию:
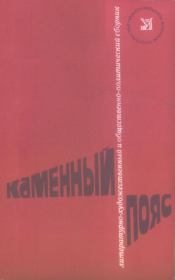 |
| Валентин Петрович Катаев, Марк Соломонович Гроссман, Борис Сенкевич и др. - Каменный пояс, 1979 Жанр: Советская проза Год издания: 1979 |