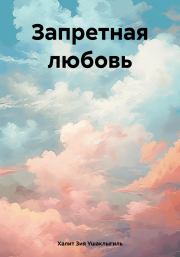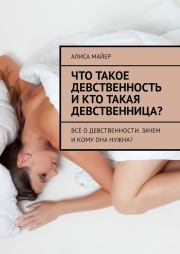Марк Сергеевич Харитонов , Илья Габай - Письма из заключения (1970–1972)
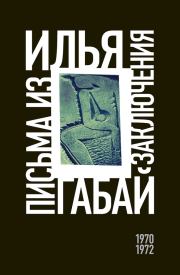 | Название: | Письма из заключения (1970–1972) |
Автор: | Марк Сергеевич Харитонов , Илья Габай | |
Жанр: | Биографии и Мемуары, Эпистолярная проза | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Новое литературное обозрение | |
Год издания: | 2015 | |
ISBN: | 978-5-4448-0417-9 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Письма из заключения (1970–1972)"
Илья Габай (1935–1973) – активный участник правозащитного движения 1960–1970-х годов, педагог, поэт. В январе 1970 года он был осужден на три года заключения и отправлен в Кемеровский лагерь общего режима. В книге представлены замечательные письма И. Габая жене, сыну, соученикам и друзьям по Педагогическому институту (МГПИ им. Ленина), знакомым. В лагере родилась и его последняя поэма «Выбранные места», где автор в форме воображаемой переписки с друзьями заново осмысливал основные мотивы своей жизни и творчества. Читатель не сможет не оценить нравственный, интеллектуальный уровень автора, глубину его суждений о жизни, о литературе, его блистательный юмор. В книгу включено также последнее слово И. Габая на суде, которое не только не устарело, но и в наши дни читается как злободневная публицистика.
В оформлении обложки использован барельеф работы В. Сидура.
Фотографии на вклейке из домашних архивов.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: письма
Читаем онлайн "Письма из заключения (1970–1972)" (ознакомительный отрывок). [Страница - 6]
Но в этом случае расхожие лжеистины потеснят выстраданные цивилизацией представления о гуманности, в этом случае будет происходить постоянная утрата моральных прав, и если новым поколениям будет успешно внушено, что тридцатые годы – годы трудовых успехов и только, то кто сможет отказать другой стране в благоговейном воспоминании о времени, когда тоже с избытком хватало и силы, и веры, и почитания, и энтузиазма, и страха, и зрелищ, и стали на душу населения…
4
Во многих документах, написанных или подписанных мною, говорилось именно об этом. Понятие «сталинизм» расшифровывалось, и делалось это потому, что оценка Сталина представлялась мне и, надо полагать, и моим соавторам вопросом отнюдь не академическим. Архаический пласт, который, по наблюдению мудрых людей, всегда в той или иной степени есть в любом обществе, чрезвычайно чувствителен к такой реабилитации изуверства и несвободы, какую неизбежно несет с собой реабилитация имени Сталина. Признать Сталина лицом положительным – это положительно оценить и навязанные силой условия, это вообще коренным образом переоценить те представления о человеческих взаимоотношениях в обществе, которые в робкой, недостаточной, противоречивой форме, но все-таки вырабатывались с 1956 по 1962 год. Что так оно и есть на самом деле, свидетельствуют многие факты: от окриков в адрес историков, писателей, режиссеров, «осмелившихся» отрицательно трактовать личность Ивана Грозного, до участившихся аргументов, оскорбляющих мое представление о человеческом достоинстве, о победах при НЕМ, о смерти с ЕГО именем. Идолопоклонство это опасно тем, что оно автоматически ведет к представлению о непогрешимости всего происходившего и происходящего. Мы писали о том, что сейчас, когда еще последствия сталинизма воспринимаются очень многими как личная трагедия, так называемая «объективность» его оценки не может не восприниматься как кощунство, как надругательство над его жертвами. Тем более что эта «объективность» самым магическим образом ни на кого, кроме Сталина, не распространяется, во всяком случае она не распространяется на его оппонентов. Я мало что смыслю в партийной борьбе, да и интересы мои мало соприкасаются с этой сферой; я готов поверить, что противники Сталина были не правы то слева, то справа, то с центра, а он всегда был прав, что они были некорректны в споре, а Сталин был образцом корректности. Но мне известно, что не они прибегли к такому полемическому аргументу, как клеветнический навет и физическое истребление. И тогда такая объективность оборачивается очень опасным смещением понятий, при котором уничтожение миллионов кажется пустяком по сравнению с неправильной позицией в дискуссии о профсоюзах.
5
В связи со своими пристрастиями я особенно остро ощущаю несвободу в творческой и вообще гуманитарной деятельности. В одном из наших документов говорилось о том, что временщики портят жизнь и условия работы деятелям культуры, диктуют в императивной форме всем без исключения свои вкусы. В этом непременном, злом и невежественном посредничестве я усматриваю одно из самых характерных проявлений сталинизма, и, как бы резко ни звучало слово «временщик» и как бы категорически ни выглядело это утверждение, я, к моему глубокому сожалению, не могу снять его. Мартирологи самых талантливых людей нашей страны – Бабеля, Прокофьева, Зощенко, Платонова, Ив. Катаева, Ахматовой, Мандельштама, Петрова-Водкина, Фалька, Заболоцкого, Булгакова – мешают мне отказаться от этого утверждения. Мне трудно забыть, как в уже новые, внушавшие мне некоторые иллюзии времена один временщик выгонял из страны, как из своей вотчины, ее гордость – Бориса Пастернака, а другой с апломбом преподавал азбуку живописи виднейшим советским художникам. И как же не временщики – эти люди, затерявшиеся сейчас в списках номенклатурных лиц. Сейчас ясно, что пребывание Семичастного[3] не оставило неизгладимого следа в истории нашего молодежного движения, но в свое время он был наделен полномочиями говорить от имени всей молодежи и даже всего народа. Разруганные в 1962–1963 годах картины сейчас висят в Третьяковской галерее, --">Книги схожие с «Письма из заключения (1970–1972)» по жанру, серии, автору или названию:
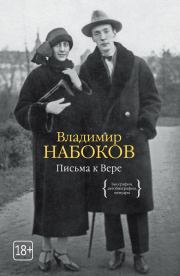 |
| Владимир Владимирович Набоков - Письма к Вере Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2017 Серия: Биографии, автобиографии, мемуары |
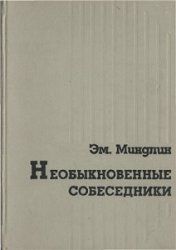 |
| Эмилий Львович Миндлин - Необыкновенные собеседники Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 1968 |
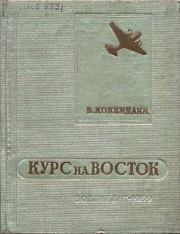 |
| Владимир Константинович Коккинаки - Курс на Восток Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 1939 |
Другие книги автора «Марк Харитонов»:
 |
| Марк Сергеевич Харитонов - Возвращение ниоткуда Жанр: Современная проза Год издания: 1998 |
 |
| Марк Сергеевич Харитонов - Ночное, дневное. Жанр: Документальная литература Год издания: 2011 Серия: Журнал «Знамя», 2011 № 10 |
 |
| Марк Сергеевич Харитонов - Провинциальная философия Жанр: Современная проза Год издания: 2010 |
 |
| Марк Сергеевич Харитонов - Прохор Меньшутин Жанр: Современная проза Год издания: 1988 |