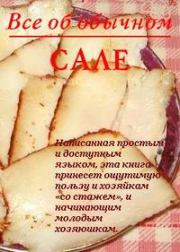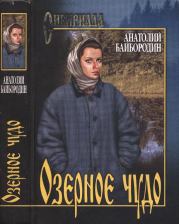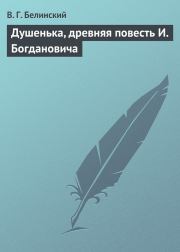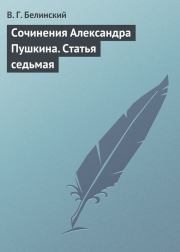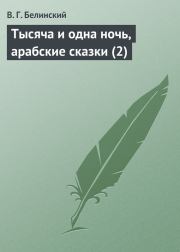Виссарион Григорьевич Белинский - Русская литература в 1844 году
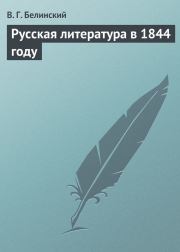 | Название: | Русская литература в 1844 году |
Автор: | Виссарион Григорьевич Белинский | |
Жанр: | Классическая проза, Критика | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Русская литература в 1844 году"
Настоящая статья лишь в незначительной части является обзором литературных явлений истекшего 1844 года. В основном же она направлена против славянофильства. В 1844 году борьба между западниками и славянофилами достигает чрезвычайной остроты, о чем достаточно свидетельствует стихотворный памфлет Н. Языкова «К не нашим». Белинский, в свою очередь, отвечает рядом полемических статей. Своеобразие настоящей статьи заключается в том, что главное внимание Белинского сосредоточено на анализе не критико-публицистических, а литературно-поэтических выступлений славянофилов и на критике их творческого метода. Поводом для этого послужили вышедшие в 1844 году сборники стихотворений Н. Языкова и А. Хомякова. Но Белинский рассматривает и значительное количество более ранних произведений обоих поэтов.
Читаем онлайн "Русская литература в 1844 году". [Страница - 3]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (37) »
Но все эти «опасные новости», все эти «дикие неистовства» вольнодумной критики, так изумившие и раздражившие старое поколение, и вполовину не произвели на него такого страшного, потрясающего впечатления, как начавшиеся потом нападки на Карамзина. Тут вполне обнаружилось воспитанное Карамзиным поколение: в непростительной дерзости новых критиков судить о Карамзине не по табели о рангах, а по своему смыслу и вкусу увидело оно покушение на жизнь и честь – не Карамзина (которого честь достаточно обеспечивалась его заслугами), а на жизнь и честь карамзинского поколения. Война была страшная; много было пролито чернил и поломано перьев; сражались и стихами и прозой. Замечательно, впрочем, что эта война началась еще при жизни Карамзина (который не вмешивался в нее) и что первый осмелился заговорить о Карамзине, не по преданию и не по авторитету, а по собственному суждению, человек старого поколения – профессор Каченовский. Князь Вяземский доказывал ему его несправедливость в стихотворном послании, которое было напечатано в «Сыне отечества» (1821) и начиналось так:
Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок,
Талантов низкий враг, завистливый зоил,
Как оный вечный огнь на алтаре весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил
В груди несчастного неугасимо тлеет.
На нем чужой успех, как ноша, тяготеет;
Счастливца свежий лавр – колючий терн ему;
Всегда он ближнего довольством недоволен,
И вольный мученик, чужим здоровьем болен.
Г. Каченовский перепечатал это послание у себя, в «Вестнике Европы», поблагодарив издателей «Сына отечества» за запятую и восклицательный знак, которыми, в первом стихе, отделено имя того, к кому адресовано послание, и снабдив эту пьесу очень любопытными примечаниями.{7} И долго после того продолжалась война… Карамзина не стало; князь Вяземский напечатал в «Телеграфе» еще стихотворную филиппику против врагов Карамзина, то есть против людей, --">- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (37) »
Книги схожие с «Русская литература в 1844 году» по жанру, серии, автору или названию:
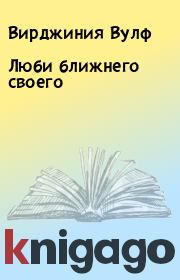 |
| Вирджиния Вулф - Люби ближнего своего Жанр: Классическая проза Год издания: 1989 |
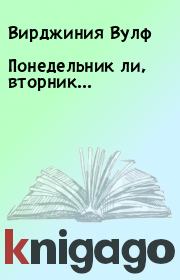 |
| Вирджиния Вулф - Понедельник ли, вторник... Жанр: Классическая проза Год издания: 1989 |
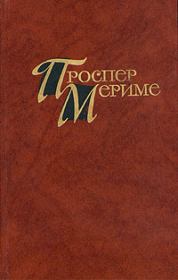 |
| Проспер Мериме - Голубая комната Жанр: Классическая проза Год издания: 1978 |
Другие книги автора «Виссарион Белинский»:
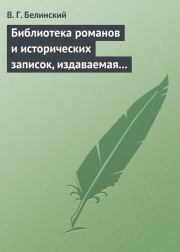 |
| Виссарион Григорьевич Белинский - Библиотека романов и исторических записок, издаваемая книгопродавцем Ф. Ротганом… Жанр: Классическая проза |
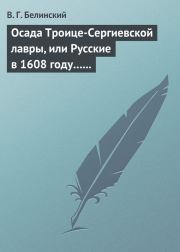 |
| Виссарион Григорьевич Белинский - Осада Троице-Сергиевской лавры, или Русские в 1608 году… Александра С*** Жанр: Критика |