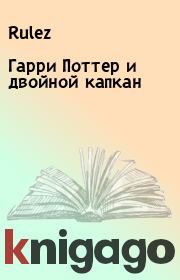Геннадий Александрович Барабтарло - Полупрозрачный палимпсест
litres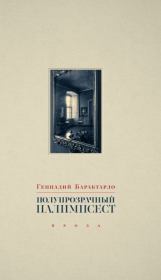 | Название: | Полупрозрачный палимпсест |
Автор: | Геннадий Александрович Барабтарло | |
Жанр: | Современная проза, Драматургия | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Издательство Ивана Лимбаха | |
Год издания: | 2022 | |
ISBN: | 978-5-89059-474-7 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Полупрозрачный палимпсест"
Рассказы и очерки Геннадия Александровича Барабтарло (1949–2019), филолога, поэта, переводчика и исследователя творчества В.В. Набокова, не могут не удивлять. Литературные и философские образы, вызванные ими к жизни, охватывают огромный временной период от св. Августина до Пушкина и от Плотина до Шестова, а свежий, точный, изысканный язык напоминает читателю о высочайших литературных образцах. Это проза художника, посвятившего всю жизнь изучению литературы, и до конца своих дней не только сохранившего вкус родной речи, но и преумножившего ее дары.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: эссе,сборник рассказов,знаменитости,философская проза
Читаем онлайн "Полупрозрачный палимпсест" (ознакомительный отрывок). [Страница - 5]
Нельзя сказать, что в Барабтарло «уживаются» беллетрист и исследователь, потому что и та и другая ипостась не противодействуют, а суть одно в его произведениях. В этой являющей нового большого писателя книге художник по-пушкински, по-набоковски внедряется глубоко в прозу судьбы и истории, в переплетения материи и духа. Будучи в ответе за своего читателя, он впрядает уроки постижения литературы в основу своей поэтической ткани, а утку позволяет пестрить, завораживать, отвлекать. Без «Английского междометия», бережно задающего «важнейшие вопросы» о последних двух годах жизни Пушкина, не было бы «Начала большого романа» – рассказа одновременно очень мастерского в своей вымышленности и очень точного в каждой детали, вплоть до заглавия, отсылающего нас к предисловию автора к изданию первой главы (1825): «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено». Сочиняя свое завершение «Евгения Онегина», Барабтарло отчасти вторит пушкинским сомнениям – чем грандиозней замысел, тем труднее поставить точку в конце его воплощения, – но отчасти и совершает то, что сам однажды предложил сделать Дмитрию Владимировичу Набокову в отношении к неоконченному роману отца: «телескопически внедрить в него останки „Лауры“ – как бы роман в романе внутри третьего, вроде слоистого стихотворения Лермонтова о полдневном зное и мертвом сне» («Скорость и старость»). Сновидческие совпадения образов из «Начала большого романа» не только с онегинскими и набоковскими, но и с этим «полдневным зноем», конечно, намеренны. Вспомним газовые горелки, якобы пылающие за изголовьем уходящего все глубже в предсмертный полусон Николая Львовича. Их жар – оттуда, из литературного, легендарного лермонтовского Дагестана[7].
Тому, кто оценит эти подробности бытия прозы Барабтарло, откроется и понимание автором своего долга, и его горнее чувство, и артистизм. «…И я не умер в Таганроге. / А онъ… где онъ бредет? Какой / Тропой – небесной иль земной?..» – вопрошает последняя строфа его варианта сожженной, воскрешенной, вечной Десятой главы. Ответа не дано, но мы-то знаем:
«Рукописи не горят».
«Смерть неизбежна».
«…и не кончается строка».
Полупрозрачный палимпсест
Пятнадцать лет тому назад решил я насадить у себя в имении яблоневый сад в сорок деревьев. Мне хотелось кончить посадку до переезда в усадьбу с молодой женой, и мой садовник Трифон с двумя рабочими трудился не покладая рук. Когда мы, обвенчавшись, приехали в Ярополье, яблоньки уже стояли между домом и парком в четыре ряда, с крашенными мелом на полтора аршина от земли щуплыми еще стволами. На третий год на половине их появились яблоки, на четвертый уже на всех, а потом мы не знали, что делать с корзинами белой и красной анисовки и титовки, которые долго, до заморозков, стояли у крыльца, и вдоль подъезда к крыльцу, и позади дома, рядом с открытой террасой, и в сенях, где исходивший от них прохладный, терпкий запах достигал до верхних комнат. Делали яблочный квас, и пастилу, и варенье, которого не могли съесть за зиму, возили на Преображенье освящать в Никольское, да там в церкви и оставляли, раздавали гостям и в деревне, где их принимали, вежливо посмеиваясь.Этим садом удобно и чрезвычайно приятно было проходить прямо на главную аллею парка – и в апреле, когда сад после Пасхи весь распушался и наполнялся запахом аниса с легкой примесью ванили, и в средине лета, когда у иных яблонь ветви склонялись до земли под тяжестью яблок и их приходилось подпирать скрещенными бамбуковыми жердями.
Как-то раз в половине июля мои домашние стали жаловаться, что сделалось невозможно проходить садом из-за пчел или ос, которые развелись в тот год во множестве и уже покусали Татьяну, нашу домоправительницу, моего двоюродного брата, гостившего у нас в то лето, и нашего меньшего сына. Левушка был ужален в правое веко, оно раздулось и с трудом открывалось, и то только на узкую щель. Ос он звал «оськами», должно быть по примеру «пчелок» и «мушек», и по этому случаю его старший брат Алексей сочинил басню «Лев и Оська», от декламации которой Левушка плакал горше, чем от укуса («Ай да оська, знать, она права, коль жалит доносчика Льва»: за неделю перед тем он пожаловался матери, что Алеша собирает в спичечную коробку лесных клопов и выпускает --">Книги схожие с «Полупрозрачный палимпсест» по жанру, серии, автору или названию:
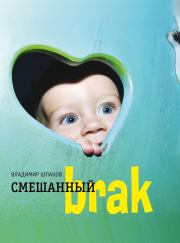 |
| Владимир Михайлович Шпаков - Смешанный brак Жанр: Современная проза Год издания: 2014 |
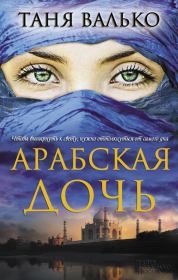 |
| Таня Валько - Арабская дочь Жанр: Современная проза Год издания: 2015 |
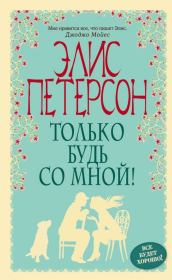 |
| Элис Петерсон - Только будь со мной Жанр: Современная проза Год издания: 2015 |