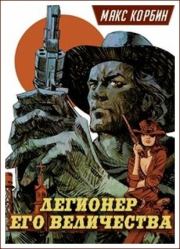Игорь Евгеньевич Суриков - Очерки об историописании в классической Греции
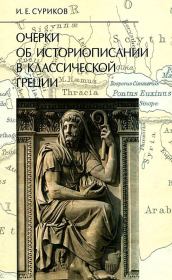 | Название: | Очерки об историописании в классической Греции |
Автор: | Игорь Евгеньевич Суриков | |
Жанр: | Научно-популярная и научно-познавательная литература, Современные российские издания, История Древнего мира | |
Изадано в серии: | studia historica | |
Издательство: | Языки славянских культур | |
Год издания: | 2011 | |
ISBN: | 978-5-9551-0489-8 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Очерки об историописании в классической Греции"
Монография представляет собой результат исследований в области древнегреческой историографии, проводившихся автором на протяжении ряда лет. Книга состоит из двух частей. В главах первой части анализируются общие особенности исторической памяти и исторического сознания в античной Греции. Освещаются следующие сюжеты: соотношение исследования и хроники в историографии, аспекты зарождения исторической мысли, место мифа в конструировании прошлого, циклистские и линейные представления об историческом процессе, взаимовлияние историописания и драматургии, локальные традиции историописания в античном греческом мире, элементы иррационального в произведениях классических греческих историков и др.
Вторая часть посвящена различным проблемам творчества «отца истории» Геродота. В ее главах рассматриваются следующие вопросы: место Геродота в эволюции исторической мысли, влияние эпоса и устных исторических традиций на его труд, образы времени в «Истории» Геродота, проблемы достоверности данных этого автора и его повествовательного мастерства, гендерная и этноцивилизационная проблематика у Геродота, вопрос о степени завершенности «Истории» автором, географические представления Геродота и др. В заключении ставится вопрос о том, принадлежал ли Геродот к архаической или классической традиции историописания, и предпринимается попытка аргументированного ответа.
Для оформления обложки использован барельеф «Геродот» Жана Гийома Муатта, 1806.

Читаем онлайн "Очерки об историописании в классической Греции" (ознакомительный отрывок). [Страница - 5]
В сущности, в понимании греков архаической и классической эпох историк был «коллегой» поэта. Известен каждому тот хрестоматийный факт, что история считалась находящейся под покровительством «собственной» музы (Клио), подобно эпосу и лирике, трагедии и комедии. Однако далеко не всегда мы в должной мере задумываемся над импликациями этого факта. А ведь это только для нас музы — не более чем красивый образ. В греческом мире они, как и любые другие божества, воспринимались не как метафора и даже не как предмет индивидуальной веры, а как непосредственно данная объективная реальность[24]. Музы — дочери Зевса и богини памяти Мнемосины (обратим внимание на последнее, отнюдь не случайное обстоятельство) — властно овладевали человеком, приводили его в состояние неистовства (mania). Именно в этом смысле поэт (а стало быть, и ранний историк) в архаической Греции, как и во многих традиционных обществах, уравнивался с пророком.
Платон в диалоге «Федр» (244а sqq.), подробно рассуждая о священном неистовстве, одержимости, насылаемой богами, выделяет несколько видов такого состояния. Один из этих видов — пророческое неистовство, позволяющее прозревать грядущее. Другой вид — поэтическое неистовство, источник которого — музы. Этот вид одержимости, по словам философа, «охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков (курсив наш. — И.С.)». Последние слова сказаны как будто специально об историках[25].
Музы — божества «мыслящие», «знающие» по преимуществу. В «Теогонии» Гесиода они так говорят о себе:
Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду.Они, таким образом, могут вводить людей в заблуждение. Отнюдь не случайно, что, насколько можно судить, все без исключения античные эпические поэты, будь то Гомер, Гесиод или даже несравненно более поздние Вергилий или Нонн (хотя для последних, конечно, это стало уже скорее литературным штампом), начинают свои поэмы именно призывом к музе или музам, стремясь снискать их благоволение и получить от них правдивую информацию. Гекатей и Геродот, не говоря о Фукидиде, уже не взывают к богиням творческого вдохновения, предпочитая вместо этого начинать свои труды демонстративным заявлением собственного авторства. И тем не менее, как известно, девять книг «Истории» Геродота названы именами девяти муз. Даже вне зависимости от того, сделал ли это сам историк или же эллинистические систематизаторы его наследия, данный факт в высшей степени символичен как рудиментарное отражение прежнего положения вещей.Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем.
(Hes. Theog. 27–28)
Вряд ли необходимо специально останавливаться на том, сколь многим древнегреческое историописание в целом обязано эпосу, в сколь большой степени первые историки основывались на нем и даже подражали ему. Об этом уже неоднократно говорилось в исследовательской литературе. Ф. Артог пишет: «Геродот хотел соперничать с Гомером и, завершив "Историю", стал Геродотом… Геродот черпал силу или дерзость для того, чтобы начать, в эпосе»[26]. Мы, со своей стороны, добавим, что первую на греческой почве (и вообще первую в Европе) концепцию исторического развития мы встречаем значительно раньше, чем появились первые историки в собственном смысле слова, а именно у вышеупомянутого эпика Гесиода, на рубеже VIII–VII вв. до н. э. Это знаменитое учение о сменяющих друг друга «веках» или «поколениях» людей — золотом, серебряном, медном, героическом и современном поэту железном (Hes. Орр. 109 sqq.). При этом Гесиод, концептуально повествуя о прошлом и фактически выступая в роли первого «протоисторика», понимает свою миссию как пророческую. Он абсолютно убежден, что музы поведали ему чистую правду. Они
…дар мне божественных песен вдохнули,Сразу припоминаются цитированные выше слова Гомера о Калханте. Для того, чтобы рассказать истину о прошлом, точно так же нужен --">Чтоб воспевал я в тех песнях, что было и что еще будет.
(Hes. Theog. 31–33.)
Книги схожие с «Очерки об историописании в классической Греции» по жанру, серии, автору или названию:
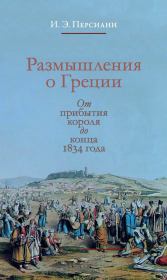 |
| Иван Эммануилович Персиани - Размышления о Греции. От прибытия короля до конца 1834 года Жанр: История: прочее Год издания: 2016 |
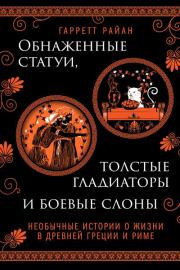 |
| Гарретт Райан - Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны. Необычные истории о жизни в Древней Греции и... Жанр: Исторические приключения Год издания: 2024 Серия: Путешественники во времени |
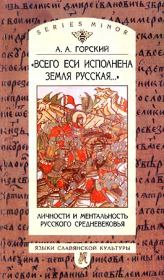 |
| Антон Анатольевич Горский - «Всего еси исполнена земля Русская...» Личности и ментальность русского средневековья Жанр: Научно-популярная и научно-познавательная литература Год издания: 2001 Серия: studia historica |
Другие книги из серии «studia historica»:
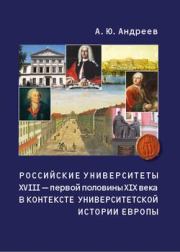 |
| Андрей Юрьевич Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы Жанр: История: прочее Год издания: 2009 Серия: studia historica |
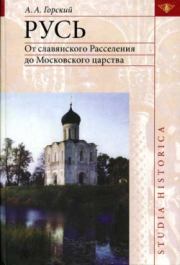 |
| Антон Анатольевич Горский - Русь: от славянского расселения до Московского царства Жанр: История: прочее Год издания: 2007 Серия: studia historica |
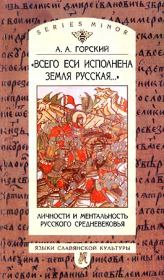 |
| Антон Анатольевич Горский - «Всего еси исполнена земля Русская...» Личности и ментальность русского средневековья Жанр: Научно-популярная и научно-познавательная литература Год издания: 2001 Серия: studia historica |
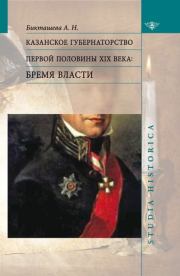 |
| Алсу Назимовна Бикташева - Казанское губернаторство первой половины XIX века. Бремя власти Жанр: Политика и дипломатия Год издания: 2014 Серия: studia historica |