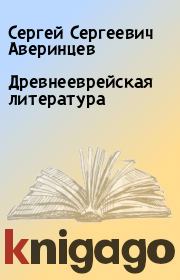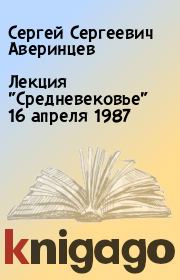Сергей Сергеевич Аверинцев - Истоки и развитие раннехристианской литературы
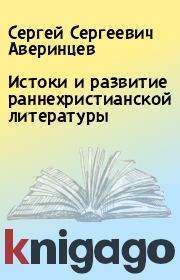 | Название: | Истоки и развитие раннехристианской литературы |
Автор: | Сергей Сергеевич Аверинцев | |
Жанр: | Религиоведение | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Наука | |
Год издания: | 1983 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Истоки и развитие раннехристианской литературы"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Истоки и развитие раннехристианской литературы". [Страница - 4]
Христианство жило верой в то, что «новый союз» бога с людьми осуществлен через примирительную миссию и крестную смерть Христа (ср. Лк. 22, 20: «Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается»). Чаяния Иеремии должны осуществляться; отныне отношения бога и человека строятся не на рабском послушании, но на дружеской доверительности (Ио. 15, 15: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не ведает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями, ибо я открыл все, что слышал от отца моего»). При этом в грекоязычную христианскую литературу термин berit перешел в переводе Септуагинты (отсюда русское — «Завет»): естественно, что в христианстве этот термин стали прилагать не к самой общине, а к сумме канонических текстов, из которых хотели вычитать новые заповеди, сменяющие старый Моисеев «Закон». В Евангелиях Христос повторяет: «Вы слышали, что сказано древним… А я говорю вам…» (Матф., 5, 21–22, 27–28 и др.); «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ио., 13, 34).
Слово «новый», вошедшее в обозначение самой чтимой книги христиан, как нельзя лучше передает эсхатологический историзм раннехристианской религиозности; члены христианских общин чаяли космического обновления и сами ощущали себя «новыми людьми», вступившими в «обновленную жизнь» (выражение из Римл. 6, 4, возможно, послужившее Данте образцом для заглавия его «Vita nova»). Если даже традиционная структура взаимоотношений бога и человека преображалась, с тем большей решительностью молодое христианство в принципе «перевертывало» практику человеческих социальных взаимоотношений: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями именуются; а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, а начальствующий — как служащий» (Лк., 22, 25–26). При этом нужно
говорить не только о динамическом реформаторстве, но именно об историзме, ибо взаимоотношения бога и человека оказались самым выразительным образом соотнесены с мистически понятой идеей развития, эволюции, получили временное измерение (ср. Римл., 1–7, где многократно подчеркивается, что иудейский «Закон» возник во времени и во времени же отменяется). В посланиях апостола Павла выработан особый термин, означающий нечто вроде гегелевского «снятия», т. е. отмену когда-то нужного, но исчерпавшего свой смысл отношения, — katargeo (упраздняю). Так, в I Послании к коринфянам (13, 9—11) мы читаем: «Наше знание неполно, и наше пророчество неполно; а когда придет совершенство, неполное упразднится. Когда я был младенец, у меня слова были младенческие, мнения младенческие, мысли младенческие; а когда я стал мужем, младенческое упразднилось». Чувство сдвига, осуществления неожиданного и непредставляемого — вот что выражают слова «Новый Завет».
Всякий обычный тип религиозности тяготеет к привычному и культивирует преклонение перед тем, что заведено предками; в рамках этого мировоззренческого стиля эпитет «новый» не может выражать ничего, кроме осуждения. В этом пункте официальный иудаизм и греко-римское язычество, при всем их различии, понимали друг друга: греческий критик христианства Кельс, третирующий иудеев как жалких варваров, все же считает нужным похвалить их за то, что они в противоположность христианам, «соблюдая богослужение, унаследованное от отцов, поступают подобно всем прочим людям» (Ориген «Против Кельса», V, 25).
Но христиане как раз не хотели «поступать подобно всем прочим людям». В слово «новый» они вложили свои лучшие надежды и высшие --">Книги схожие с «Истоки и развитие раннехристианской литературы» по жанру, серии, автору или названию:
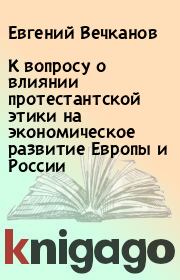 |
| Евгений Вечканов - К вопросу о влиянии протестантской этики на экономическое развитие Европы и России Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2001 |
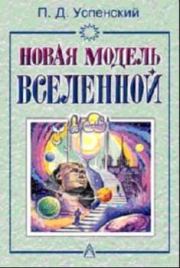 |
| Петр Демьянович Успенский - Новая Модель Вселенной Жанр: Психология Год издания: 1993 |
 |
| Николай Иосифович Конрад - Очерки японской литературы Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 1973 |
Другие книги автора «Сергей Аверинцев»:
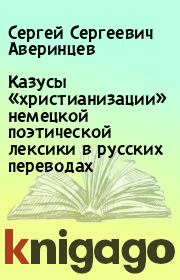 |
| Сергей Сергеевич Аверинцев - Казусы «христианизации» немецкой поэтической лексики в русских переводах |
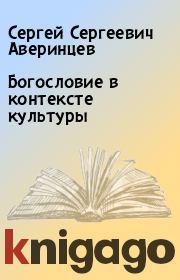 |
| Сергей Сергеевич Аверинцев - Богословие в контексте культуры Жанр: Культурология и этнография Год издания: 1997 |
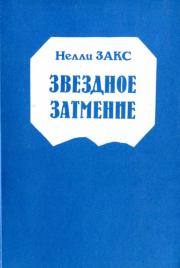 |
| Сергей Сергеевич Аверинцев, Владимир Борисович Микушевич - Звездное затмение Жанр: Поэзия Год издания: 1993 |