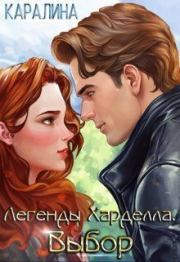Вадим Эразмович Вацуро - М.Горбачев как феномен культуры
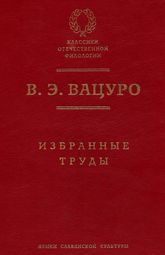 | Название: | М.Горбачев как феномен культуры |
Автор: | Вадим Эразмович Вацуро | |
Жанр: | Биографии и Мемуары, Литературоведение (Филология) | |
Изадано в серии: | Вацуро В.Э. Избранные труды (сборник) #3, Классики отечественной филологии, Статьи разных лет #11 | |
Издательство: | Языки славянской культуры | |
Год издания: | 2004 | |
ISBN: | 5-94457-179-9 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "М.Горбачев как феномен культуры"
«…Мне кажется, что пора снять ореол какой-то святости, мученичества и величия с фигуры Горбачева. Это заурядный партийный работник, в силу обстоятельств попавший в историю и содействовавший развалу огромного советского государства. Никакого отношения к развитию демократии и преобразованиям он не имеет. Если бы не было Горбачева — был бы другой. Общество должно было пройти через реформы. Если бы не было Горбачева, может быть, эти реформы пошли бы более удачно, более эффективно».
Р. И. ХасбулатовК этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: творческое наследие
Читаем онлайн "М.Горбачев как феномен культуры". [Страница - 2]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (9) »
«Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою»[4].
Для Пушкина этот факт был показателем низкого уровня культурного самосознания современного общества, о чем он писал неоднократно, — подробнее всего в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. «…Наша общественная жизнь — грустная вещь»; в ней царит «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине», «циничное презрение к человеческой мысли и достоинству»[5]. Именно этот взгляд на общество в целом приводил его к убеждению, что в России «правительство всегда… впереди на поприще образованности и просвещения» и что «народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно»[6].
Он сделал попытку описать феномен «полупросвещения», которым, по его мысли, страдает и значительная часть образованного общества. «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему…»[7].
Тридцатью годами позднее, в середине шестидесятых годов, в эпоху значительно большей демократизации общества, с бесконечно возросшей ролью общественного мнения, Некрасов с беспощадностью обрушивался на массовое, уже политизированное, сознание. «У нас неуважение к уму Сильней неуважения к закону» — записывает он в черновых набросках «Медвежьей охоты», — а в тексте вкладывает в уста представителю культурной генерации «сороковых годов» целую инвективу против «русского общественного мненья», отмечая в нем прежде всего коллективную агрессивность («на нем предательства печать И непонятного злорадства»). С «преданиями рабства» связывал он практику единодушных апофеозов победителей и столь же единодушных осуждений «неудач», которые в его изображении предстают почти как проявления стадного инстинкта:
«Сперва — сторонников полки, Восторг почти России целой, Потом — усталость; наконец Все настороже, все в тревоге, И покидается боец Почти один на полдороге…»
Его изображение «постыдных оргий» преследования играет памфлетными красками: общество «сторожит неудачу» с каким-то «зловещим тактом» и находит удовольствие самоутверждения в коллективных «облавах»:
«Как мы вертим хвостом лукаво, Как мы уходим величаво В скорлупку пошлости своей! Как негодуем, как клевещем, Как ретроградам рукоплещем, Как выдаем своих друзей! Какие слышатся аккорды в постыдной оргии тогда» и т. д.[8]
Эти примеры выбраны почти наудачу, из разных эпох эволюции общественной психологии русского девятнадцатого века. Свидетельства подобного рода можно умножить во много раз, пока не создастся целостная картина русского общества глазами лучших его представителей. При этом было бы непростительной наивностью полагать, что все эти негативные стороны свойственны только русскому массовому сознанию. Знаменитая книга Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», вышедшая в 1929 году и глубоко поразившая европейскую мысль, описывала сущностные черты европейца XX столетия почти в тех же категориях. Дон Ортега писал о «человеке-массе», вкладывая в это понятие не столько социальный, сколько культурологический смысл; он анализировал самый феномен --">- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (9) »
Книги схожие с «М.Горбачев как феномен культуры» по жанру, серии, автору или названию:
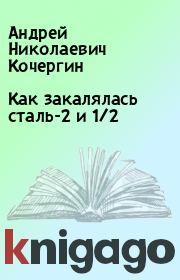 |
| Андрей Николаевич Кочергин - Как закалялась сталь-2 и 1/2 Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2008 |
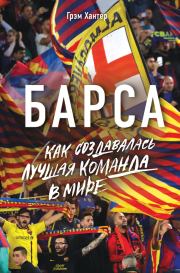 |
| Грэм Хантер - Барса. Как создавалась лучшая команда в мире Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2017 Серия: Спорт изнутри |
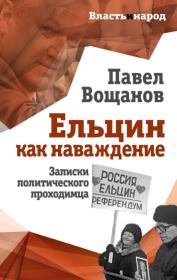 |
| Павел Игоревич Вощанов - Ельцин как наваждение Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2019 Серия: Власть и народ [Родина] |
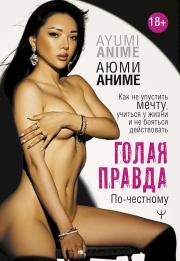 |
| Аюми Аниме - Голая правда. Как не упустить мечту, учиться у жизни и не бояться действовать. По-честному Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2021 Серия: #МастерБлога |
Другие книги из серии «Вацуро В.Э. Избранные труды (сборник)»:
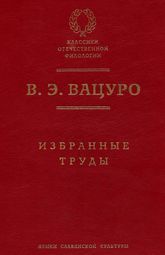 |
| Вадим Эразмович Вацуро - Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов (этюды и разыскания) Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2004 Серия: Вацуро В.Э. Избранные труды (сборник) |
 |
| Вадим Эразмович Вацуро - Денис Давыдов — поэт Жанр: Критика Год издания: 2004 Серия: Вацуро В.Э. Избранные труды (сборник) |
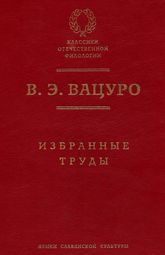 |
| Вадим Эразмович Вацуро - М.Горбачев как феномен культуры Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2004 Серия: Вацуро В.Э. Избранные труды (сборник) |
 |
| Вадим Эразмович Вацуро, Наталья Иванова-Гладильщикова - Будем работать в стол — благо, опыта не занимать Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2004 Серия: Вацуро В.Э. Избранные труды (сборник) |