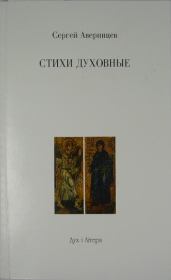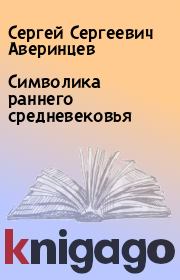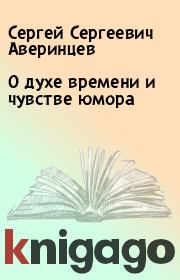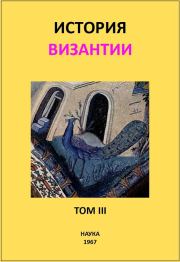Сергей Сергеевич Аверинцев - Христианская философия как проблема для себя самой.
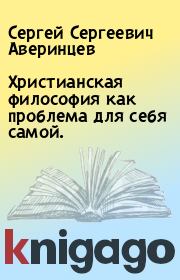 | Название: | Христианская философия как проблема для себя самой. |
Автор: | Сергей Сергеевич Аверинцев | |
Жанр: | Философия | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Дух и Литература | |
Год издания: | 2006 | |
ISBN: | 966-378-032-0 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Христианская философия как проблема для себя самой."
Проблема в том, что постромантическая религиозная философия едва ли вообще может полностью избежать двусмысленности как своей атмосферы. Она устраивает то ли диалог, то ли синтез проповеди и критики, критики и проповеди... И еще хуже того: если не субъект философствования, то само это философствование на глубине словно бы даже заинтересовано не в сохранении, а в крушении мира практикующей религиозности.
Читаем онлайн "Христианская философия как проблема для себя самой.". [Страница - 6]
На религиозную философию так легко нападать! Ведь она не может молчаливо, имплицитно, самым своим существованием не давать на две стороны двух невыполнимых обещаний: озабоченному секуляристу - что возрождение «практикующей» религиозности не произойдет под знаком фундаменталистского варварства; и озабоченному ревнителю веры - что умствования ни у кого не отнимут веры (и - опасность еще большая, ибо более тонкая - не подменят собой веры). Вся ее респектабельность - в этих двух заверениях. Но, увы, они оба не очень надежны. И перед всеми сторонами она остается виноватой. Ну, как поручиться перед культурой - за веру, перед верой - за культуру? Скандал один, ксшбаХоу, соблазн.
И только когда приходит нагое варварство вроде нацизма или большевизма, равно последовательно враждебное вере и культуре, вера и культура на мгновение глядят друг на друга с просыпающимся пониманием, даже кидаются объятия; но это продолжается, увы, недолго... Сейчас трудно по настоящему вспомнить то относительно недалекое время, когда протестантский пастор Дитрих Бонхёффер, героически отдавший жизнь в борьбе против национал-социализма, мыслитель, как хорошо известно, отнюдь не консервативный и далеко заходивший в признании позитивного христианского смысла за процессом секуляризации, предсказывал, однако, что культура сможет найти для себя пространство именно и только внутри стен Церкви. Ах, сегодня эти слова звучат как смутный отголосок всеми забытой мечты. Кто отважится сегодня сказать что-нибудь подобное - не в документе церковного Магистериума, подобном по жанру, например, упомянутой энциклике «Fides et Ratio», но в свободном, приватном, неконвенциональном размышлении о конкретных проблемах сегодняшнего дня?
Можно было бы сказать, что для верующего человека философия - не высшее из его благ; что ему велено извергнуть даже око, если оно его вводит в соблазн. Перестанем философствовать, будем только богословствовать...
Но здесь возникает неожиданная проблема. В качестве парадигмы «богословствования», представляющего радикальную альтернативу философской культуре, у верующего, желающего быть верным Преданию Церкви, нормально фигурирует пример Святых Отцов. Однако как раз для патристической эпохи разграничение «богословия» и «философии» в духе размежевания дисциплин и, так сказать, факультетов крайне несвойственно. У Отцов Церкви библейское и христианское вероучение систематически называется «философией», причем «теология» может называться ее «разделом», как у Климента Александрийского: (Strom. I, 28: «Философия Моисеева разделяется четверояко: на разделы исторический, и тот, который обычно именуется законодательным..., и, в-четвертых, на род богословский»), вероучение Библии названо у Феодорита Киррского «философией евреев», ti ftov 'EPpcdwv фаооофСа (Thdt. affect. 2, p. 59.11; 4.751); у Евсевия Ке-сарийского вполне аналогично говорится о «философии христиан», Xpumavwv фаооофСа (Eus. h.e. 2, 13, 6); в ареопаги-тической лексике употребляется выражение «наша философия», ti ка9" г\\шс. фаоаофСа (Dion. Areop. d.n. 2,2). У Григория Нисского есть термин «священная философия», и=р& фаооофи* (In Christi resurrectionem 3, PG46,677D). (Ср. G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxf. 1987,1481-1483.) Даже в эпоху латинской схоластики Фома Аквинский любит выражение «священное учение», doctrina sacra. Хорошо известный у языческих философов со времени Платона и особенно Аристотеля термин 9eoA.oyia может означать «именование Бога», например, у Евсевия, Ргаераг. evangelica 11.14 PG 21, 884А, говорится о «неизрекаемом четверобуквенном богословии». Так --">Книги схожие с «Христианская философия как проблема для себя самой.» по жанру, серии, автору или названию:
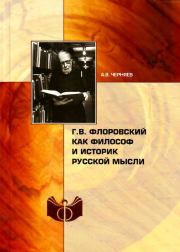 |
| Анатолий Владимирович Черняев - Г. В. Флоровский как философ и историк русской мысли Жанр: Философия Год издания: 2009 |
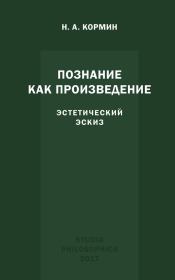 |
| Николай Александрович Кормин - Познание как произведение. Эстетический эскиз Жанр: Философия Год издания: 2017 |
 |
| Кто Я - Как понять все Жанр: Психология Год издания: 2022 |
 |
| Кто Я - Как воспитать себя и душа для искусственного интеллекта Жанр: Философия Год издания: 2024 |