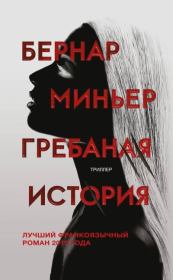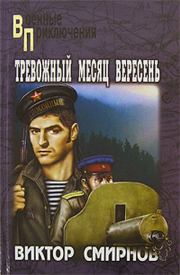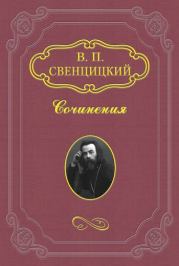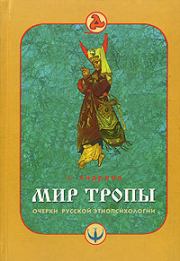Игорь Иванович Евлампиев - Антропологическая тема в русской философии
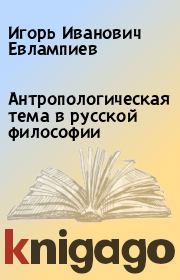 | Название: | Антропологическая тема в русской философии |
Автор: | Игорь Иванович Евлампиев | |
Жанр: | Философия | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Антропологическая тема в русской философии"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Антропологическая тема в русской философии". [Страница - 2]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (5) »
У наиболее известных последователей Соловьева (имеются в виду Н. Бердяев, С. Франк, И. Ильин и Л. Карсавин) изменения были внесены именно в этом пункте. Борьба человека за совершенство и гармонию мира по-настоящему оправдана и подразумевает всю полноту добровольно принятой ответственности только в том случае, когда идеальное состояние мира не признается существующим ни в каком онтологическом плане, когда оно только подразумевается самим человеком как далекая и труднодостижимая перспектива развития. Но отказываясь считать идеальное состояние мира, идеальное всеединство уже существующим в какой-то запредельной, сверхэмпирической сфере бытия, русские философы неизбежно приходили к необходимости переосмыслить понятие Бога. Бог из уже наличной бесконечно благой и совершенной сущности превращался в некую проблему, загадку, которую человек вынужден был загадывать самому себе и разгадка которой была недоступна в том реальном историческом времени, в котором существовал человек. Для Бога не оставалось места нигде, как только в некоем трансцендентном измерении самого человеческого бытия. "Божественное раскрывается в пределах самого человека, - писал, например, Ильин, - оно не вне субъекта, но внутри субъекта: оно есть сверхчувственный корень человеческого духа"[1]. Вера в Бога из уверенности в его существовании и его всемогуществе, гарантирующем достижимость окончательного совершенства для человека и мира, преобразовывалась в бесконечные поиски "отсутствующего", но необходимого Бога, понимаемого как собственная сущность человека, как то содержание человеческого бытия, которое задает его роль в качестве абсолютного центра мироздания и обосновывает его абсолютную ответственность за все происходящее в мире и за будущее мира. Указанные бесконечные поиски Бога находят себе наиболее зримое выражение в способности человека создать идеал совершенства, гармонии и добра и в его решимости переделать мир и себя по законам этого идеала. Такая позиция неизбежно вела к крайнему метафизическому антропоцентризму, который особенно ясно выразил Н. Бердяев.
В рамках достаточно единой основополагающей концепции, превращающей человека в метафизический центр реальности, отдельные философы по-разному понимали смысл и конкретное содержание той "борьбы", которую должен вести человек в мире. Это предполагало также определенное понимание причин, по которым наша земная действительность предстает "зараженной" злом и несовершенством. Несмотря на определенное различие точек зрения на эту проблему, можно выделить общий и очень важный их элемент, который ясно различим уже в мировоззрении Достоевского. Источник и причина несовершенства и зла мира коренится в том же самом измерении человеческого бытия, где пребывает его божественная сущность, откуда исходит неустанное стремление к совершенству и добру. И, в конечном счете, этот источник - наша свобода, необъяснимая, неподвластная ничему, иррациональная. Именно открытие глубокой иррациональной диалектики человеческой души, сочетающей в себе (часто в одном и том же чувстве и помысле) добро и зло, своеволие и рабство, любовь и ненависть, составляет главную заслугу Достоевского. Впрочем, понимание "негативной" диалектики нашей свободы можно найти и у предшественников Достоевского, например, у Чаадаева. "Да, я свободен, - пишет Чаадаев, - могу ли я в этом сомневаться?... Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее - злоупотребление моей свободой и зло как его последствие... Мы только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей"[2].
Отсюда следует, что оборотной стороной нашего стремления к совершенству и добру в себе и в мире должно являться осознание своей вины за несовершенство и зло мира, причем эта вина носит "сверхэмпирический", --">- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (5) »
Книги схожие с «Антропологическая тема в русской философии» по жанру, серии, автору или названию:
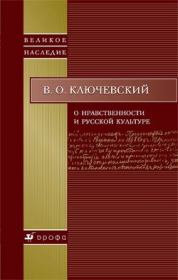 |
| Василий Осипович Ключевский - О нравственности и русской культуре Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2008 |
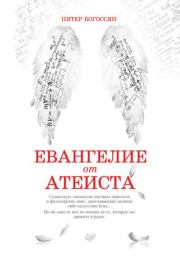 |
| Питер Богоссян - Евангелие от атеиста Жанр: Психология Год издания: 2015 |