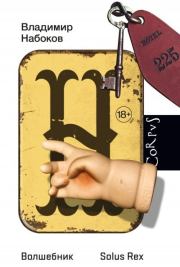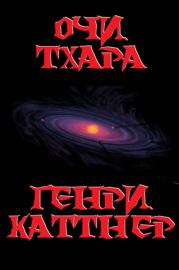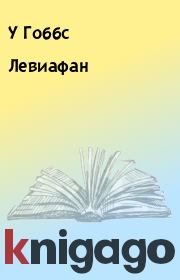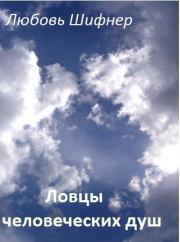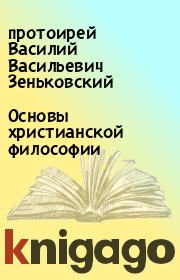протоирей Василий Васильевич Зеньковский - Н. В. Гоголь
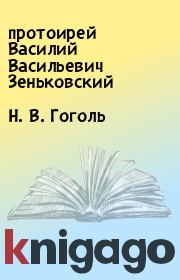 | Название: | Н. В. Гоголь |
Автор: | протоирей Василий Васильевич Зеньковский | |
Жанр: | Философия, Биографии и Мемуары, Литературоведение (Филология) | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Н. В. Гоголь"
Книга приводится по изд. Судьбы. Оценки. Воспоминания - Гиппиус В., Зеньковский В. - Гоголь; Н.В. Гоголь, Logos, 1994
Источник электронной публикации - http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/gzd/gzd-189-.htm
Читаем онлайн "Н. В. Гоголь". [Страница - 2]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (86) »
В итоге пристального изучения и художественных произведений, и идейных исканий Гоголя выступает с полной ясностью упорная и замечательная самостоятельность Гоголя. Потому так и трудно изучать Гоголя, что он, по французской поговорке, всегда «пьет из своего стакана». Этого не учитывали современники Гоголя, этого не учитывали почти все исследователи его, — и то взаимное трагическое непонимание, которое наметилось в последние годы жизни Гоголя между ним и русским обществом, во многом продолжается и ныне. Гоголя постоянно стилизуют исследователи, равно как и читатели, — вместо того, чтобы овладеть всем содержанием его творчества. Впрочем, тут было немало вины и со стороны самого Гоголя, который часто прикрывал основной свой замысел, основные нити рассказа совсем иной «словесной плотью», как бы намеренно пользуясь ею, как «завесой». Иногда Гоголь и сам не замечал наличности разных слоев в его творчестве, их существенной разнородности — и этим совсем запутывал и читателей, и исследователей.
Как странно, напр., читать в письмах «По поводу „Мертвых душ“» (в «Выбранных местах из переписки с друзьями») приглашение Гоголя сообщать ему разные факты действительной жизни, чтобы этим показать ошибочность или неправду нарисованных в «М. д.» картин! В наивном обращении к русским людям по этому поводу[1] Гоголь как будто ожидал, что эти отдельные факты могут ослабить значение того, что дают различные сцены в «М. д.», — словно такое сопоставление может
194
что-либо дать. Позже Гоголь признавал, что в «М. д.» отразилось его собственное «переходное» состояние, — но разве в его образах, в его повествовании не действовала чисто художественная диалектика? Творчество Гоголя всегда было внутренне свободным, т. е. следовало его художественным интуициям и подчинялось лишь имманентной диалектике художественного творчества. При чем же тут «переходное» состояние автора? Ни о каком «давлении» тех или иных идей или размышлений автора на творчество не приходится говорить; значит дело идет о чем-то другом. «Переходное состояние» Гоголя только потому им осознавалось как бы имевшим влияние на творческий процесс, что само творчество его было более сложным, чем это казалось ему. С особенной ясностью это выступает при изучении того, что называется «реализмом» Гоголя и что на самом деле, как мы постараемся показать в главе посвященной Гоголю как художнику, раздвигает и усложняет самое понятие реализма у Гоголя.
Очень характерна в этом отношении часто встречающаяся у Гоголя дидактическая тенденция, стремление его направить внимание читателя на те или иные моменты в рассказе, которые без нарочитого вмешательства автора были бы совсем иначе восприняты читателем. Эта дидактическая тенденция, как будто извне привнесенная автором, совсем не означает сосуществования двух разнородных императивов в творчестве, а, наоборот, показывает сложность творческого процесса, многослойность в том, что он преподносит читателю. В качестве примера этого приведем ту знаменитую страницу в «Шинели», где в словах Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — одному (недавно определившемуся) чиновнику послышались другие слова: «Я брат твой». Эти слова кажутся так мало связанными с общей характеристикой Акакия Акакиевича, что невольно рождается мысль, что они родились не от чисто художественного процесса, а были привнесены в силу каких-то внехудожественных мотивов — быть может, от моралистических соображений автора. Действительно, самый портрет Акакия Акакиевича нарисован так остро и едко, можно сказать, беспощадно, почти зло, что сразу трудно понять, зачем здесь вставлена фраза о том, что он «брат» наш. Жалкое, забитое существо во всем рассказе выступает с какой-то беспросветной тупостью (даже когда он «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, то ел все это с мухами»), — и во всем описании как будто нет и тени того «братского» отношения, которое выдвинуто самим же автором. Его --">- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (86) »
Книги схожие с «Н. В. Гоголь» по жанру, серии, автору или названию:
 |
| Павел Евгеньевич Жуковский - Законы Судьбы Жанр: Психология Год издания: 2015 |
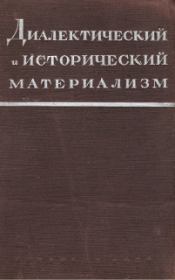 |
| Марк Борисович Митин - Диалектический материализм Жанр: Философия Год издания: 1934 |
Другие книги автора «протоирей Василий Зеньковский»:
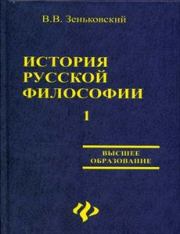 |
| протоирей Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии (Том 1, часть I-II) Жанр: История: прочее |
 |
| протоирей Василий Васильевич Зеньковский - Русские мыслители и Европа Жанр: Философия Год издания: 1997 |