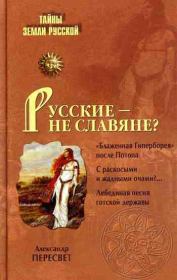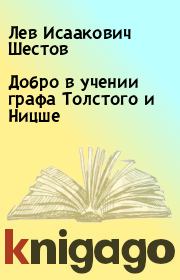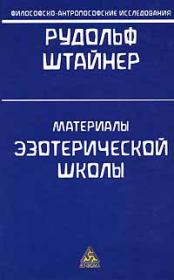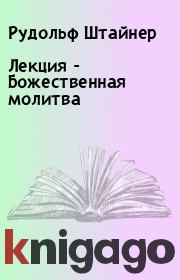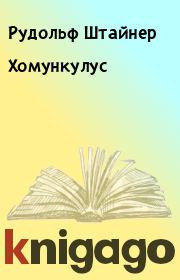Рудольф Штайнер - GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени
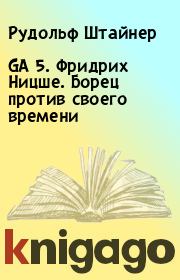 | Название: | GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени |
Автор: | Рудольф Штайнер | |
Жанр: | Философия, Критика | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени". [Страница - 4]
2
Ницше — вовсе даже не «мыслитель» в обычном значении этого слова. Для ответа на глубокие, наводящие на размышление вопросы, поставленные им в отношении мироздания и жизни, обычного мышления недостаточно. Для них необходимо высвободить все потенции человеческой природы; одному только мыслительному созерцанию они не по зубам. Он не испытывает никакого доверия к исключительно измышленным основаниям для того или иного мнения. «Живет во мне недоверие к диалектике, да что там — даже к самим постулатам», — пишет он Георгу Брандесу в письме от 2 декабря 1887 г. (См. «Люди и сочинения» [Menschen und Werke] последнего, с. 212.) Для тех, кто вопрошает его об основаниях его воззрений, у него наготове ответ «Заратустры»: «Ты спрашиваешь почему? Я не из тех, кого спрашивают про его «почему»»{6}. Определяющим для него является здесь не то, возможно ли логически доказать его точку зрения, но оказывает ли она на все силы человеческой личности такое действие, что обладает ценностью для жизни. Мысль обретает значимость в его глазах лишь в том случае, если он удостоверяется в ее пригодности для развития жизни. Он желал бы видеть человека как можно более здоровым, как можно более могущественным, как можно более творческим. Истина, красота, все вообще идеалы имеют отношение к человеку лишь постольку, поскольку они способствуют жизни.
Во многих сочинениях Ницше задается вопросом относительно ценности истины. В самой бесстрашной форме поставлен он в его книге «По ту сторону добра и зла». «Воля к истине, которая еще соблазнит нас на множество рискованных поступков, эта знаменитая «правдивость», о которой почтительно рассуждали до сих пор все философы — что за вопросы поставила перед нами эта воля к истине! Что за диковинные скверные сомнительные вопросы! Это продолжается с давних времен, и все же сдается, что все это началось лишь теперь. Что удивительного в том, что под конец мы делаемся недоверчивыми, теряем терпение, нетерпливо поглядываем вокруг? Что в свою очередь выучиваемся у этого сфинкса постановке вопросов? Кто, собственно, ставит здесь перед нами вопросы? Что, собственно, в нас устремляется «к истине»? В самом деле, мы надолго задержались перед вопросом о причине этой воли, пока, наконец, мы не замерли совершенно перед еще более капитальным вопросом. Мы спросили о ценности этой воли. Предположим, мы желаем правды; но почему же нам не предпочтительнее неправда?»{7}
Это мысль, которую вряд ли можно превзойти в отваге. Только сравнив с ней то, что говорит о стремлении к истине другой «мечтатель и любитель загадок» Иоганн Готлиб Фихте, мы видим, из каких подспудных глубин человеческой природы извлекает Ницше свои представления. «Я призван, — говорит Фихте, — поручиться за истину; моя жизнь, моя судьба не значат ничего; от следствий же моей жизни зависит бесконечно много. Я — жрец истины; я состою у нее на службе; я принял на себя обязательство --">Книги схожие с «GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени» по жанру, серии, автору или названию:
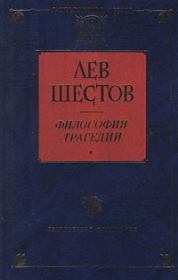 |
| Лев Исаакович Шестов - Достоевский и Ницше Жанр: Философия Год издания: 2001 Серия: Религиозная философия |
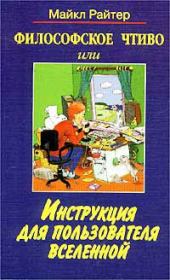 |
| Майкл Райтер - Философское чтиво, или Инструкция для пользователя Вселенной Жанр: Психология Год издания: 2000 |
Другие книги автора «Рудольф Штайнер»:
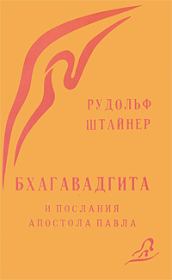 |
| Рудольф Штайнер - Бхагавад Гита и послания Св.Павла Жанр: Философия Год издания: 1993 |