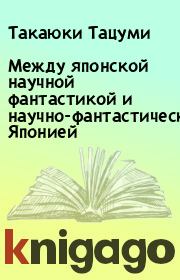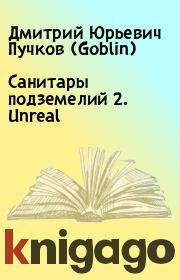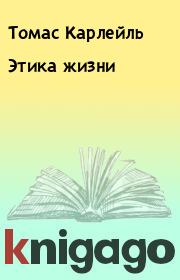Поль Рикёр - Мораль, этика и политика
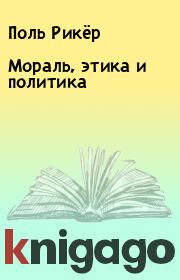 | Название: | Мораль, этика и политика |
Автор: | Поль Рикёр | |
Жанр: | Философия | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Мораль, этика и политика"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Мораль, этика и политика". [Страница - 2]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (9) »
Именно на такой тройственной основе- лингвистической, практической, повествовательной- конституируется этический субъект. Если вначале говорят о действии, о практике, что они являются хорошими или плохими, то этический предикат рефлексивно применяется по отношению к тому, кто может назвать самого себя в качестве автора своих слов, исполнителя своих действий, персонажа рассказов, повествующих о нем или им изложенных. Посредством этого рефлексивного движения субъект сам помещает себя в поле идеи блага и судит или предоставляет возможность судить свои действия с точки зрения благой жизни, на достижение которой они направлены. Словом, только субъект, способный оценивать собственные действия, формулировать свои предпочтения, связанные с предикатами "хороший" или "плохой", а значит, способный опираться на иерархию ценностей в процессе выбора возможных действий, -только такой субъект может определять самого себя.
Теперь следует показать, что только в обществе, а точнее- в рамках справедливых социальных институтов, субъект могущий становится субъектом действия, существующим субъектом, историческим субъектом. Поскольку не составляет сложности показать на каждом из уровней конституирования "я" вклад в него другого субъекта, не являющегося этим "я", то для нашего анализа важнее будет установить внутри самого понятия "другой" различие между другим, раскрывающим себя через свой облик (и следовательно, способным вступить в межличностные отношения, примером которых может служить дружба), и безликим "другим", который составляет третий элемент политической связи. В действительности критический момент для политической философии наступает тогда, когда она затрагивает такое состояние, при котором отношение с другим, раздваиваясь, уступает место опосредованию институтами. Не следует останавливаться на двойном соотношении: "я"- "ты", нужно идти дальше в направлении тройного соотношения: "я"-"ты"-"третий", или "любой".
Будет удобнее пойти по пути поэтапного рассмотрения становления идентичности "я" с точки зрения этого тройного соотношения. Субъект дискурса может самоидентифицироваться и самоопределяться прежде всего в процессе беседы. Говорящему в первом лице соответствует слушающий во втором лице. Моральные, юридические, политические аспекты этой противоположности проявляются в той мере, в какой роли говорящего и слушающего могут меняться местами, тогда как лица, --">- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (9) »
Книги схожие с «Мораль, этика и политика» по жанру, серии, автору или названию:
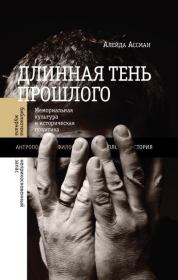 |
| Алейда Ассман - Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика Жанр: История: прочее Год издания: 2023 Серия: Библиотека журнала «Неприкосновенный запас» |
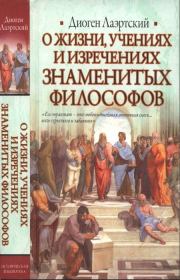 |
| Диоген Лаэртский - Жизнь, учения и изречения знаменитых философов Жанр: Античная литература Год издания: 2010 |
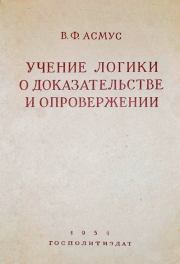 |
| Валентин Фердинандович Асмус - Учение логики о доказательстве и опровержении Жанр: Философия Год издания: 1954 |
Другие книги автора «Поль Рикёр»:
 |
| Поль Рикёр - История и истина Жанр: Философия Год издания: 2002 |
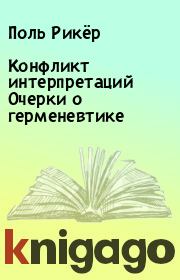 |
| Поль Рикёр - Конфликт интерпретаций Очерки о герменевтике Жанр: Философия Год издания: 2003 |