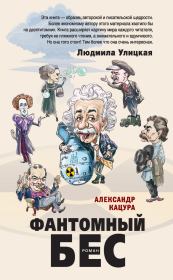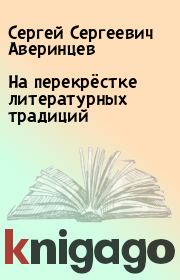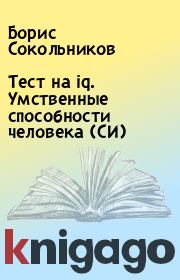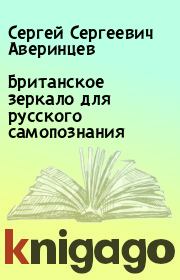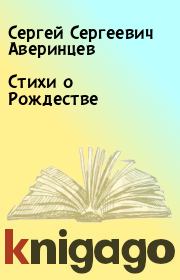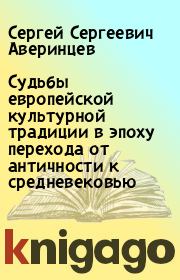Сергей Сергеевич Аверинцев - Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци
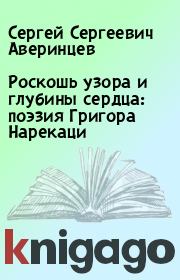 | Название: | Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци |
Автор: | Сергей Сергеевич Аверинцев | |
Жанр: | Культурология и этнография | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци". [Страница - 5]
Слияние чувств поэта и читателя — для молитв и покаянных плачей не парадоксальный и неожиданный результат про тивостояния двух индивидов, их диалектического контраста, но само собой разумеющееся задание. Здесь никто не удивится тому, как это поэт умудрился сказать обо всех и за всех; ничего иного и не предполагалось уже априорно. И вот еще важное различие: отождествляя свое «я» с «я» поэта, читатель как бы раздваивается внутренне на абсолютное «я», пригодное к такому отождествлению, и эмпирическое «я», заведомо отличное от лирического героя (причем последний не совпадает также и с эмпирическим «я» поэта, так что раздвоение проникает и в облик последнего); с духом средневековой аскетики подобная игровая установка несовместима. Здесь раздвоения и актерские переодевания не допускаются.
Это значит, что все приметы индивидуальной биографии должны быть либо элиминированы, либо обобщены до такой всечеловеческой парадигмы, в которой каждая деталь без остатка переработана в символ. Иначе не могла бы состояться процедура усвоения текста общиной, для жизненного обихода которой он создан. Процедура эта предполагала, что все члены общины могут «едиными устами и единым сердцем», как гласит одна литургическая формула, произнести текст как свое аутентичное коллективное высказывание, то есть что каждый член общины применяет каждое слово к самому себе, и притом без всяких метафор и раздвоений, возможно более буквально; чем буквальнее, тем лучше. Когда, например, византиец присутствовал за великопостной службой при речитативном чтении «Великого канона» Андрея Критского, он мог иметь какие-то представления о биографии этого гимнографа — более или менее реальные, почерпнутые из житийной литературы, или фантастические, почерпнутые из фольклорного предания, где святой выставляется неким новым Эдипом, — но при каждом возгласе этого покаянного гимна ему предлагалось думать отнюдь не о грехах Андрея, а о своих собственных. Поэтому Андрей и не говорил ни о каких особых чертах индивидуальной греховности, но о греховности, так сказать, «человека вообще»; и так же поступал Нарекаци.
Еще раз о «хронотопе»: Пушкин мог дать в своих стихах петербургскую ночь как обстановку для покаянной бессонницы своего лирического героя, но для Нарекаци невозможно было дать почувствовать за своими стихами какой-либо характерный ландшафт, отличный от любого другого реального ландшафта, например ландшафт монастыря Нарек на берегу озера Ван, где прошла его жизнь. Интересно, что современный читатель как раз этого от него ждет. Это хорошо выразил Л. Мкртчян, толчок воображению которого дали образы «моря житейского», щедро рассеянные в гимнах Григора: «В непогоду волны могучего озера в гневе вздымались и падали и снова яростно вздымались и рушились. А поэт, запертый в смиренном монахе, смотрел на разбушевавшуюся стихию и думал о своей жизни…» [7] Именно так принято изображать рождение замысла в биографических романах и киносценариях о поэтах: поэт смотрит на бурю, а потом под впечатлением от этого пишет про бурю. Но то, что более или менее годится как подступ к современной поэзии, не работает в применении к поэзии средневековой. Метафора «моря житейского» из греческой риторики (где она действительно была обусловлена опытом народа мореходов) попала --">Книги схожие с «Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци» по жанру, серии, автору или названию:
 |
| Юрий Марксович Коротков, Георгий Литвинов - Стиляги. Как это было Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2008 |
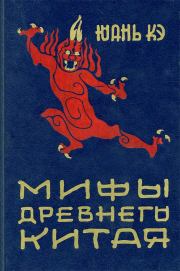 |
| Юань Кэ - Мифы древнего Китая Жанр: Древневосточная литература Год издания: 1965 |
Другие книги автора «Сергей Аверинцев»:
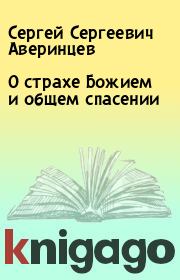 |
| Сергей Сергеевич Аверинцев - О страхе Божием и общем спасении Жанр: Религиоведение Год издания: 1995 |