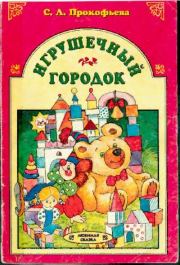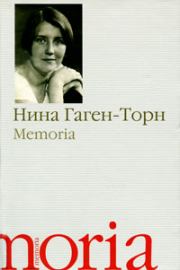Нина Ивановна Гаген-Торн - Женская одежда народов Поволжья
материалы к этногенезу | Название: | Женская одежда народов Поволжья |
Автор: | Нина Ивановна Гаген-Торн | |
Жанр: | Культурология и этнография | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Чувашское государственное издательство | |
Год издания: | 1960 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Женская одежда народов Поволжья"
Киига дает сравнительный анализ женской одежды народов Поволжья, рассматривая одежду как один из ключей к раскрытию этногенеза. Современная национальная одежда народов Поволжья сохраняет в себе следы древних культурных связей между этническими группами, из которых сформировались современные народности Поволжья. Покрой ее отражает две этнохозяйственные структуры: охотничье-земледельческую, связанную с лесными, финскими, племенами, и степную, скотоводческую, связанную с тюркскими племенными объединениями. Обе эти культурные среды сливались в мощном государственном- образовании Булгарского царства. Наиболее яркоэлементы булгарской культуры сохранились в одежде срединной группы чуваш (ан;ат'енчи). Доказательством этого служит тесная общность чувашской и бесермянской одежды. В течение последних пятисот лет бесермяне, обитающие в удмуртской- среде, никаких связей с чувашами не имели, следовательно, создание культурной общности их может быть- о,тискано, с наибольшей вероятностью, в общих исторических корнях -г* Булгарском государстве. Сохранение в чувашской одежде и: орнаментике булгарских элементов позволяет нам говорить о близости к ним дунайских болгар и македонцев. Общность эта имеется у всех народов Поволжья: македонские сокаи чрезвычайно похожи на марийские тюрики, болгарский головной убор XVII в. чрезвычайно напоминает мордовский. Эти параллели слишком, многочисленны, чтобы быть случайными,— они указывают на-древние- историко--культурн.ые- связи предков современных народов Поволжья с предками дунайских болгар.
Читаем онлайн "Женская одежда народов Поволжья". [Страница - 22]
Н. И. Г а г е н-Т о р н. Бабьи праздники у ижор Ораниенбаумского района.
«Этнография», 1930, № 2.
1 8
9
2 0
144
еыми. Это был один из характерных для бабьего праздника моментов,
связанный с несколько оргическим характером, вытекающим из куль
та плодородия, который носил «бабий праздник» — несомненно, день
разрушения брачных уз, отдаленный пережиток матриархата. Снятие
головного убора, раскрепощая женщину, восстанавливая ее магиче
скую силу, освобождает ее от рода мужа.
Магическая сила человека очень часто осмысляется как сила пло
дородия. Д л я земледельческого этапа общественного развития есте
ственно связывать ее с земледельческими обрядами.
В старой работе Б. Л . Богаевсксго магическое отношение к воло
сам объясняется именно связью с земледельческими обрядами и
с культом растительности . Из общей концепции земледельческого
мировоззрения, в котором элементы культа плодородия наблюдается
по отношению к волосам на приводимом им, главным образом, грече
ском материале, Б. Л. Богаевский считал аналогию человека с хлеб
ным полем характерной для аграрных культов. Брак и половая жизнь
человека сопоставляется с посевом хлебных злаков и ростом расти
тельности, что отражается в целом ряде свадебных моментов. Но если
тело человека — поле, растительность этого тела связывается с расти
тельностью поля. Поэтому жертва локона волос, который юноша в
Аттике бросал речному богу, это то самое, с точки зрения Б. Л. Богаевского, что принесение в жертву початков и молодых побегов. Упо
минание о волосах на свадьбе — это часть культа растительности.
Самую форму заплетания волос в косы Б. Л. Богаевский считал ими
тацией хлебного колоса: «Со вниманием наблюдая за хлебными поля
ми и находясь с ними в тесных отношениях,— писал он, — человек
рано задумал сопоставить свои волосы с хлебным полем... А затейли
вая и красивая работа природы, заплетавшая незримыми путями
косы колосьев, также рано подала мысль человеку и свои волосы
заплести в форме колосьев» .
Представления о связи волос с растительностью, действительно,
очень распространены. В Смоленской губернии женщины, чтобы вы
звать урожай, садились в поле и, срывая друг у друга платки и дергая
друг друга за волосы, желали, чтобы урожай был лучше . В Воло
годской губернии женщины тоже срывали друг с друга платки и, дер
гая друг друга за волосы, желали, чтобы лен рос длиннее .
В приведенном нами обряде оплакивания «девьей красоты» «девья
21
22
23
24
2 1
Б. Л . Б о г а е в с к и й . Колосья волос. «Известия Отделения русского языка
и словесности Академии наук», 1912.
Б. Л . Б о г а е в с к и й . Колосья волос, стр. 110.
В. Д о б р о в о л ь с к и й
Егорьев день в Смоленской губернии. «Живая
Старина», 1908, вып. I, стр. 152.
Материалы корреспондентов Тенишевского этнографического бюро, храня
щиеся в библиотеке ГМЭ в Ленинграде.
2 2
2 3
2 4
10. Н. И. Гаген-Торн.
145
красота» иногда фигурирует в виде украшенной и «убанченной» лен
тами елочки (Новгородская г у б . ) или изображается в виде искусст
венных волос — косы изо льна, которую вывешивают на веревке около
дома невесты (Кадниковский уезд); ее невеста приносит на послед
нюю беседу и сжигает, прощаясь с подругами и причитая:
25
Подружки вы мои милые,
Ушла моя волюшка в о л ь н а я ^ .
В данном случае (Вышневолоцкий и Валдайский уезды Новгород
ской губ.) кудель, лен явно замещают волосы. Что эта замена не слу
чайна й вызвана не только подменой настоящих волос искусственны
ми, благодаря сходству кудели с волосами, указывает замена «девьей
красоты» не только куделью, но и украшенной елочкой или березкой,
что наблюдалось в свадебных обрядах: в быв. Костромском уезде «на
сговорках» выносили «девью красоту» в виде «убанченной елочки»,
с зажженными свечами, ее ставили на стол подруги невесты с соот
ветствующими обрядовыми песнями. Поезжане жениха, т. е. его родня,
за нее одаривали девушек деньгами и тушили свечки на елочке В данном случае воспоминание о «девьей красе», как о девичьем
головном уборе и волосах, уже совершенно утеряно, елочка восприни
мается, по утверждению собирателя, как символ девичества, девствен
ности. Обряд перемены прически, который, как мы это уже видели,
разделен обрядом венчания на две части, делится здесь еще раз:
после вынесения --">
Книги схожие с «Женская одежда народов Поволжья» по жанру, серии, автору или названию:
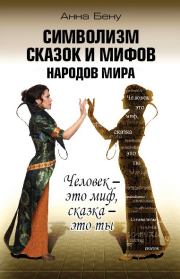 |
| Анна Бену - Символизм сказок и мифов народов мира. Человек – это миф, сказка – это ты Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2011 |
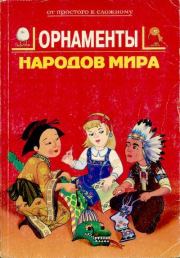 |
| Сергей Юрьевич Афонькин, Елена Юрьевна Афонькина - Орнаменты народов мира Жанр: Культурология и этнография Серия: От простого к сложному |
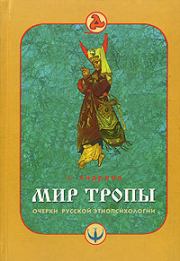 |
| Александр Александрович Шевцов (А.Р. Андреев, Саныч, Скоморох) - Мир тропы. Очерки русской этнопсихологии Жанр: Культурология и этнография Год издания: 1998 |
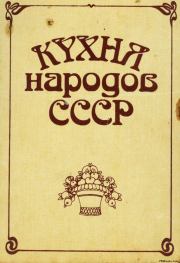 |
| Исай Абрамович Фельдман - Кухня народов СССР Жанр: Кулинария Год издания: 1990 |
Другие книги автора «Нина Гаген-Торн»:
 |
| Нина Ивановна Гаген-Торн - Memoria Жанр: Поэзия Год издания: 1994 |
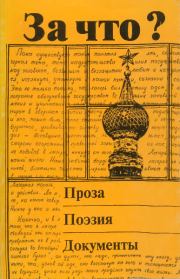 |
| Варлам Тихонович Шаламов, Анатолий Владимирович Жигулин, Александр Исаевич Солженицын и др. - За что? Жанр: Историческая проза Год издания: 1999 |
 |
| Нина Ивановна Гаген-Торн - Женская одежда народов Поволжья Жанр: Культурология и этнография Год издания: 1960 |