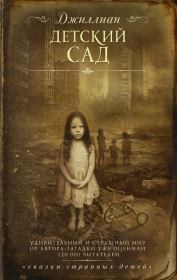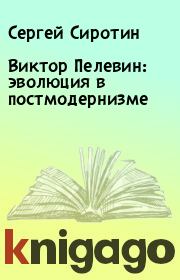Юрий Константинович Щеглов - Романы Ильфа и Петрова
 | Название: | Романы Ильфа и Петрова |
Автор: | Юрий Константинович Щеглов | |
Жанр: | Культурология и этнография, Литературоведение (Филология) | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Изд!во Ивана Лимбаха | |
Год издания: | 2009 | |
ISBN: | 978-5-89059-134-0 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Романы Ильфа и Петрова"
Книга представляет собой увлекательный путеводитель по романам, которые любимы едва ли не каждым российским читателем; адресована она как специалистам, так и всем, кто готов вместе с автором вглядываться в текст и подтексты «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», в творческую лабораторию И. Ильфа и Е. Петрова.
Статус заимствований и цитат в двух книгах соавторов — совершенно особый: ими прошита вся повествовательная ткань; это специальный, осознанно примененный прием. Оба романа создавались в то время, когда произведения-предшественники были на слуху, «просвечивали» сквозь текст Ильфа и Петрова. Для сегодняшнего читателя романы превратились в кроссворды. Ю. К. Щеглов блестяще и увлекательно их разгадывает, возвращая книгам читательский успех.
Это третье, значительно расширенное, издание известного труда одного из крупнейших русских филологов нашего времени.
Читаем онлайн "Романы Ильфа и Петрова". [Страница - 4]
Соавторам удается довольно адекватно воспроизвести ряд черт тоталитарного стиля жизни и мышления и, более того, дать им недвусмысленно ироническое освещение. В лице Бендера и ряда других героев в ДС/ЗТ постоянно присутствует критическая точка зрения на эти явления, позиция их неприятия, остранения и оглупления. Авторы охотно дают слово недругам системы, и их реакции и высказывания отнюдь не лишены интереса. Есть, например, действующее лицо, на которое аппарат идеологии и массовой культуры обрушивается лавиной, превращая его жизнь в сущий ад: это Хворобьев, сначала наяву, а затем во сне преследуемый членами правления, друзьями кремации, профсоюзными книжками, примкамерами и проч. Сходной фигурой является старик Синицкий, жертва идеологизации «ребусного дела». Помимо банального старческого шипенья на все новое (к чему часто сводится роль «бывших людей» в неинтересных советских повестях и пьесах), в трагикомическом возмущении этих лиц слышится и существенная правда. Верно, что она в какой-то мере приглушается и заслоняется от инквизиторской критики заведомо внеобщественным, шутовским или (в случае Бендера) плутовским статусом этих персонажей. Но с другой стороны, социальная неприкасаемость как раз всегда и позволяла буффонным фигурам уязвлять своей болтовней авторитетные догмы и носителей высшей власти. В их реакции на тоталитарные неудобства неизбежно звучит стихийный здравый смысл «каждого человека», который нельзя полностью сбросить со счета. Представленный в их жалобах уровень интерпретации и оценки последствий революции, идущий из глубин косной человеческой натуры, сохраняет свою элементарную притягательность. Его невозможно устранить, а можно лишь оттеснить и перекрыть более высоким и сознательным взглядом. Это и делают соавторы, однако возможность видеть в советской системе вызов естеству и разуму все же остается. Этот критический аккомпанемент упрямо продолжает звучать до самого конца, включая последние главы ЗТ с их апофеозом движения в будущее (ср., например, ту сцену, где Остапу, как не члену профсоюза, не удается получить тарелку щей в столовой).
Помимо этого, резонанс сатиры Ильфа и Петрова поддерживается уже самым калибром средств, выбранных для критики советских «неполадок». Инструментом их сатиры является Остап Бендер — персонаж, не выдуманный специально для этих романов, но сконструированный в рамках определенной литературной типологии. Он принадлежит к классу героев, типичных для «серьезной» литературы, развивающей темы свободы и морального выживания человека в условиях разного рода принудительных систем (подробнее см. в разделе 3). Поставив подобного героя в центр, дав его традиционной роли актуальное применение, писатели предопределили философский уровень своего подхода к жизни и угол зрения на нее. «Мировые» обертоны бендеровской позиции, равно как и авторской иронии, помещая бюрократизм и обывательщину в своего рода космическую перспективу, способствуют их издевательской релятивизации (см. раздел 5).
Компромиссная тактика соавторов
Отметив все это, необходимо признать и тот очевидный факт, что в своем насмешливом отношении к «священным коровам» советского тоталитаризма соавторы не выходят за определенные границы. Осторожность и умеренность требовались не просто в силу цензурных соображений, но и ради сохранения того хрупкого баланса между критикой социализма и его героизацией, который, как мы --">Книги схожие с «Романы Ильфа и Петрова» по жанру, серии, автору или названию:
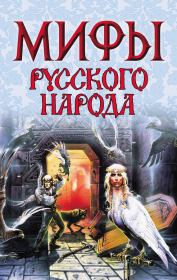 |
| Елена Евгеньевна Левкиевская - Мифы русского народа Жанр: Мифы. Легенды. Эпос Год издания: 2010 |
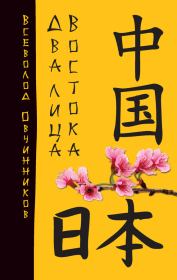 |
| Всеволод Владимирович Овчинников - Два лица Востока. Впечатления и размышления от одиннадцати лет работы в Китае и семи лет в Японии Жанр: История: прочее Год издания: 2013 |
 |
| Вячеслав Олегович Рузов - Дух команды (Team spirit) Жанр: Психология Год издания: 2010 |
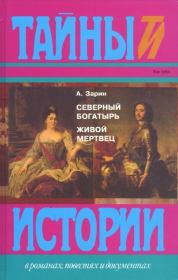 |
| Андрей Ефимович Зарин - Северный богатырь. Живой мертвец (Романы) Жанр: Историческая проза Год издания: 1997 |
Другие книги автора «Юрий Щеглов»:
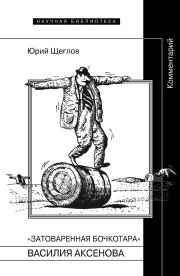 |
| Юрий Константинович Щеглов - «Затоваренная бочкотара» Василия Аксенова. Комментарий Жанр: Критика Год издания: 2014 |
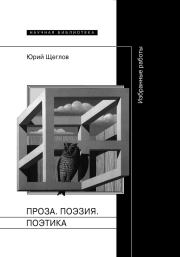 |
| Юрий Константинович Щеглов - Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы Жанр: Современная проза Год издания: 2015 Серия: Научная библиотека |
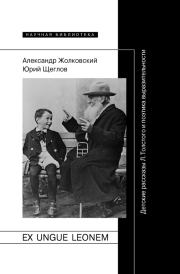 |
| Александр Константинович Жолковский, Юрий Константинович Щеглов - Ex ungue leonem Жанр: Языкознание Год издания: 2017 Серия: Научная библиотека |
 |
| Юрий Константинович Щеглов - Романы Ильфа и Петрова Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2009 |