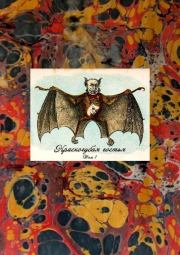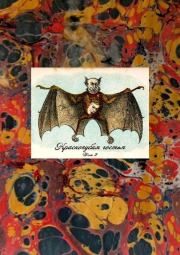Составитель: В Васильев - Русская эпиграмма
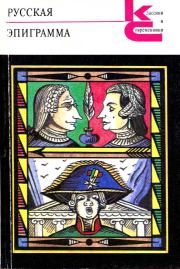 | Название: | Русская эпиграмма |
Автор: | Составитель: В Васильев | |
Жанр: | Фольклор: прочее | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Художественная литература | |
Год издания: | 1990 | |
ISBN: | 5-280-01014-6 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Русская эпиграмма"
В сборник включены лучшие образцы русской эпиграммы от истоков до начала XX века: Симеона Полоцкого, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, М. Горького, В. Маяковского и др.
Читаем онлайн "Русская эпиграмма". [Страница - 6]
Российская действительность XVIII столетия заставила обратиться к эпиграмме и такого поэта-философа, как Гаврила Романович Державин. В эпиграмматическом роде он написал не много, но это была подлинно державинская пророческая эпиграмма, в основе которой — суровое предупреждение (memento morí! — помни о смерти!). Только так воспринимается его стихотворение «На смерть собачки Милушки», в котором, коснувшись истории казни Людовика XVI, поэт исподволь обращается ко всем коронованным особам: «Не все ль судьб игрушка — // Собачки и цари?»
На таких же высоких нотах звучат некоторые эпиграммы крупнейшего баснописца XVIII века И. И. Хемницера и драматурга и поэта В. В. Капниста. Хемницер не ограничивается отвлеченной критикой монархов и без обиняков указывает на русских императриц в связи с распространенным тогда предположением, что вольтеровскую «Историю государства Российского при Петре Великом» инспирировали Елизавета и Екатерина II. В эпиграмме на создание этой «Истории» Хемницер, как бы оправдывая Вольтера, лукаво вопрошает: «Ну, виноват ли он, когда его дарили //И просили, // Чтоб вместо правды ложь он иногда писал?» И уж совсем дерзко намекает на Екатерину II Капнист в рукописном цикле «Встречные мысли»: «А сколько было в свете жен, // На мужниных сидевших тронах!»
Для эпохи русского классицизма все же наиболее характерным оставалось осмеяние общечеловеческих пороков без указания конкретных лиц. «Героям» обычно давались условные имена — Клит, Клав, Бавий, Альциндор. Подчас в самом имени раскрывался тот или иной ущерб: любителя выпить нарекали Хмельниным, скупого — Скрягиным, бездарного писателя — Мараловым и т. д. На рубеже XVIII–XIX веков классицистические каноны стали тесны для эпиграммы, нравоучительный тон мешал ей в полной мере проявить природную живость, сатирический темперамент, эмоциональность. И вот из потаенных недр оппозиционно настроенного дворянства и разночинных групп выплеснулась наружу серия инвектив против отдельных чиновников и офицеров, против' породившей их бюрократии, против церкви, а подчас против знати и царей. Такие эпиграммы не могли быть напечатаны. Они тайно передавались из уст в уста, а наиболее удачные нашли прибежище в рукописных сборниках тех лет. Одновременно возникли по духу близкие эпиграмме сатирические и водевильные «куплеты».
Эпиграммы, созданные в период сентиментализма и романтизма, заиграли новыми красками. Идейный вождь сентименталистов, один из гуманнейших и самых просвещенных людей своего времени Н. М. Карамзин не обошел вниманием любимый русским искусством жанр эпиграммы и обогатил его новым содержанием. Автор «Бедной Лизы» заметно усиливает эмоциональный строй эпиграммы, приглушая, однако, ее сатирическое звучание; за образец он берет альбомные стихи, вошедшие в моду еще в XVIII веке. Карамзин украсил рифмами многие философские афоризмы, тем самым сделав их выразительнее и доходчивее. Если же рассматривать его рифмованные афоризмы вместе с нерифмованными, то они далеко не идилличны. Чего стоит, например, такая его сентенция о придворной среде: «Больше лиц, нежели голов; а душ еще меньше».
К сожалению, его последователи — «карамзинисты» (В. А. Жуковский, В. Л. Пушкин и др.) стремятся придать эпиграмме исключительно салонный характер, иначе говоря, свести ее к тем «трудным пустякам», которые осудил еще Феофан Прокопович.
Русская эпиграмма совершила стремительный взлет, когда к ней прикоснулся Пушкин. Гениальный поэт стал теоретиком и истолкователем капризного жанра «окогченной летуньи», как метко окрестил эпиграмму Баратынский. Пушкин взял на вооружение весь арсенал накопленных до него приемов и, овладев оружием классического образца еще в лицейские годы, затем придал эпиграмме новые боевые свойства.
Так, пользуясь классицистической традицией обыгрывания имен, он проводит эту игру не по давно обкатанной схеме (глупый человек — Глупон, женщина-обольстительница — Прелеста и т. д.), а находит точные смысловые созвучия между фамилиями своих адресатов и отрицательными чертами их характера: Каченовский вследствие его журналистской драчливости ассоциируется с кочергой, и поэт назвал его Кочерговским; --">Книги схожие с «Русская эпиграмма» по жанру, серии, автору или названию:
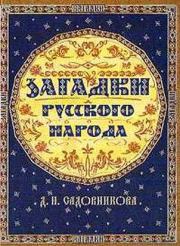 |
| Дмитрий Николаевич Садовников - Загадки русского народа Жанр: Фольклор: прочее Год издания: 2004 |
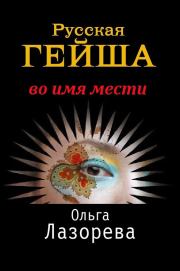 |
| Ольга Лазорева - Русская гейша. Во имя мести Жанр: Эротика, Секс Год издания: 2006 |