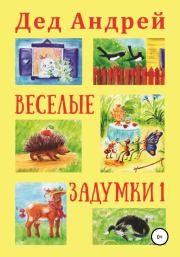Василиск Гнедов , Анастасия Чеботаревская , Виктор Ховин - Небокопы
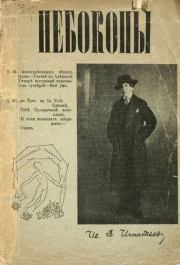 | Название: | Небокопы |
Автор: | Василиск Гнедов , Анастасия Чеботаревская , Виктор Ховин | |
Жанр: | Поэзия, Сборники, альманахи, антологии | |
Изадано в серии: | Антология поэзии #1913 | |
Издательство: | Петербургский Глашатай | |
Год издания: | 1913 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Небокопы"
Эго-Футуристы: Альманах VIII. В издание вошли стихотворения Василиска Гнедова и статьи Анастасии Чеботаревской («Зеленый бум») и Виктора Ховина («Модернизированный Адам»).
Тексты даются в современной орфографии.
Читаем онлайн "Небокопы". [Страница - 5]
«Человек есть нечто, что должно превзойти» – так говорил когда-то Заратустра, увлеченный мечтой о строительстве новой жизни. И мы увлекались проповедью его, потому что видели в ней отзвук гордого человеческого духа, но ни новые адамы, ни лесные звери и звериные добродетели не увлекут нас…
«Непознаваемое по самому смыслу нельзя познать», так отмахиваются от «вечного» акмеисты. «Мы немного лесные звери и, во всяком случае, не отдадим того, что в нас есть звериного в обмен на неврастению». О, если бы новые адамы сказали нам, что преодолевают они неврастению во имя полного расцвета человеческого и духовного в нас, тогда готовы были бы мы понять их и пойти за ними. Все же, пожалуй, лучше остаться при неврастении, но без звериных добродетелей…
«Бунтовать во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним открытая дверь», это положение вместе с отказом от «нецеломудренных стремлений» к непознаваемому вполне характеризует «дерзостность» мысли новых поэтов. И адамизм, как отказ от космических тем, это не столько стремление к непосредственности восприятий и к утверждению самоценности мира, сколько – к примитивности душевных переживаний.
Характерен самый стиль статей Гумилева и Городецкого: поток напыщенных, витиеватых слов, стремление к кокетливой гримасе лесных зверенышей и бесконечные повторения о трудностях задач, поставленных себе акмеизмом, о «смелых поворотах мысли» представителей его, наконец, о смелости людей, назвавших себя адамистами. Скудостью мысли и отсутствием пафоса ее, отсутствием пафоса чувства и молодости поражают «манифесты» акмеистов; холодом и ненужностью веет от них, а ведь не нужно забывать, что перед нами новая литературная школа, казалось бы, изрекающая очень смелые мысли. Все знаем, ни в чем не сомневаемся, со всем миримся – это говорят даже не лесные звери, а ручные, домашние…
Бели мы указали на отсутствие в манифестах новых поэтов всякого пафоса, если характерными особенностями их являются холодность и напыщенность, то то же самое следует сказать и об их творчестве. Но в последнем раньше всего поражает непохожесть поэтов друг на друга, отчужденность их поэтических устремлений. Что виной этому – сказать трудно. Или никчемность и лживость адамистического мироощущения, столь прославленного новыми Адамами, или отсутствие ярких творческих индивидуальностей среди них. Вероятно и то, и другое, но в особенности первое, потому что среди адамистов есть поэты, несомненно, талантливые.
Во всяком случае, дальше общих мест и вариаций, использованных уже тем, акмеисты не идут. Напрасно грезились Гумилеву «смелые повороты мысли», а Городецкому трудности задач, поставленных себе акмеизмом. Пока что акмеисты избежали всего этого весьма удачно и отличительной чертой их творчества остается ненужность его, ибо ничего нового и оригинального не раскрывается в нем. До самого последнего --">Книги схожие с «Небокопы» по жанру, серии, автору или названию:
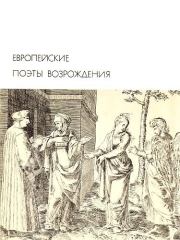 |
| Лоренцо де Медичи (Великолепный), Никколо Макиавелли, Маргарита Наваррская и др. - Европейские поэты Возрождения Жанр: Поэзия Год издания: 1974 Серия: Библиотека всемирной литературы |
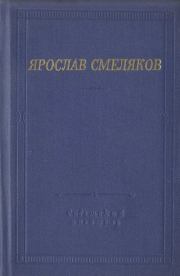 |
| Николоз Бараташвили, Юстинас Марцинкявичюс, Аркадий Александрович Кулешов и др. - Стихотворения и поэмы Жанр: Поэзия Год издания: 1979 Серия: Библиотека поэта. Большая серия |
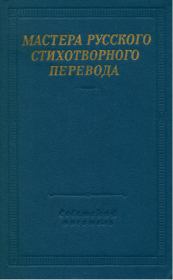 |
| Антон Антонович Дельвиг, Николай Михайлович Карамзин, Александр Сергеевич Пушкин и др. - Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 Жанр: Поэзия Год издания: 1968 Серия: Библиотека поэта. Большая серия |
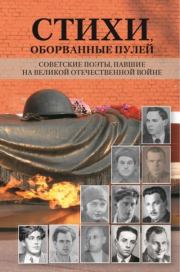 |
| Сборник - Стихи, оборванные пулей. Советские поэты, павшие на Великой отечественной войне Жанр: Поэзия Год издания: 2020 Серия: Антология поэзии |
Другие книги из серии «Антология поэзии»:
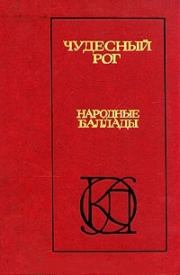 |
| Александр Сергеевич Пушкин, Максим Горький, Борис Леонидович Пастернак и др. - Чудесный рог: Народные баллады Жанр: Классическая проза Год издания: 1985 Серия: Однотомники классической литературы |
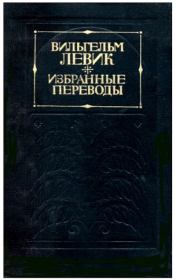 |
| Луиш де Камоэнс, Перси Биши Шелли, Джордж Гордон Байрон и др. - Избранные переводы в 2-х томах. Том 2 Жанр: Поэзия Год издания: 1977 Серия: Антология поэзии |
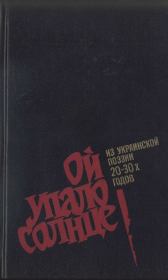 |
| Микола Бажан, Богдан Сильвестрович Лепкий, Павло Тычина и др. - Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов Жанр: Поэзия Год издания: 1991 Серия: Антология поэзии |
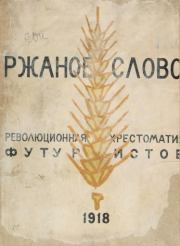 |
| Владимир Владимирович Маяковский, Велимир Хлебников, Николай Николаевич Асеев и др. - Ржаное слово Жанр: Поэзия Год издания: 1918 Серия: Антология поэзии |