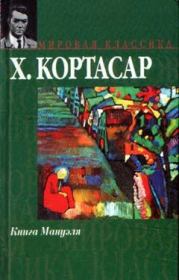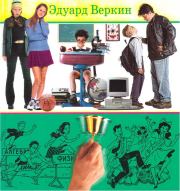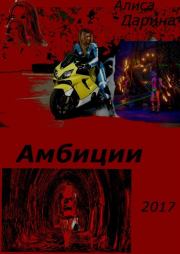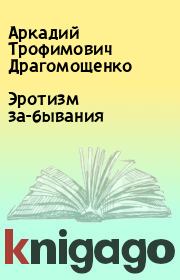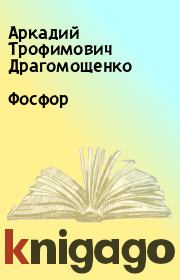Аркадий Трофимович Драгомощенко - Тень чтения
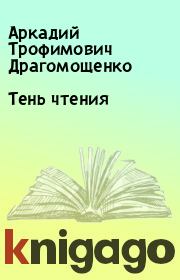 | Название: | Тень чтения |
Автор: | Аркадий Трофимович Драгомощенко | |
Жанр: | Современная проза | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Тень чтения"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Тень чтения". [Страница - 7]
"познающий желает единения с вещью, а видит себя
разлученным, и это его страсть. Или все должно
раствориться в познании, или он сам в вещи. Последнее его
смерть и пафос, первое его стремление все обратить в дух".
(Ф. Ницше, Неопубликованные материалы "Веселой Науки")
"Маленькие трагедии", описывая спираль, распрямляют композиционную пружину к некоему центру6 к Пиру (во время чумы, но почему не вспомнить другой Пир, посвященный Эросу и Знанию, эротизму смерти?), к огню, к собственному ekpyrrosis'у, в котором золото, обретаемое во второй части начала ("Скупой рыцарь"), становится золой, прахом, пеплом, о чем можно говорить не как о превращении или приращении в описании такового, но как об одновременности события поэтического высказывания, метонимиипалиндрома: золазолотозола в ослепительном замыкании. Золотоязык7, осеменяющий мир (в символическом плане спермасемя, изводящее из тьмы подземной ли, материнской ли зерно или значение), с одной стороны и есть подлинный ____________________ 6 "Центр, таким образом, является горней зоной священного, зоной абсолютной реальности" Mircea Eliade, The Myth of The Eternal Return or Cosmos and History, tr. by W. Trask, Princeton University Press, 1974, str. 17. Однако заслуживает внимания иной анализ религиозной мысли первобытных, архаических обществ, представленный Эмилем Дюркхеймом в книге "Простейшие формы религиозной жизни", а именно, отношений профанического и сакрального: "Во всей истории человеческой мысли не существует примеров столь глубокого разделения или различия [между сакральным и профаническим]. Традиционная оппозиция добра и зла ничто не означает вне его, ибо добро и зло являются всегонавсего лишь противопоставленностью в одном ряду, в одном и том же классе, а именно в морали, под стать тому, как здоровье и болезнь суть два различных состояния одного и того же порядка фактов, жизни, тогда как сакральное и профаническое всегда и везде творилось человеческим разумом, как два совершенно различных класса, как два мира, между которыми никогда не существует ничего общего". Это положение продолжено Ж. Батаем в теории гетерогенности, устанавливающей "центр" сакрального в том, что сокрыто обыденной жизнью, by common sense, ежедневной практикой в том, что запрещено общественной цензурой. Так смерть и разложение (к слову, "чума" происходит от слова "зловоние"), телесные экскременты (слезы, моча, менструальная кровь, etc.), включая в себя иные траты "себя", както: смех, ярость, оргия, жертвоприношение суть субстанция священного, изгоняемая из дискурсивности. 7 Что не противоречит значению золота в дохристианских представлениях древних славян, связывавших золото с потусторонним, загробным миром как атрибут Волоса (Велеса), пра-образом которого является мифологический змей как страж мира мертвых (пересечение с культом Орфиков) и как ЗмейОкеан. Но и "соотнесенность Волоса со смертью и вместе с тем с золотом объясняет роль денег (то есть, роль символического, знакового обмена) в погребальном обряде..." Б.А.Успенский, Филологические разыскания в области славянских древностей, Изво МГУ, 1982, стр. 56. Океанос, истинный предел, а с другой оно ничего не сокрывает, не означает (нет загадки) будучи действительно "краем бездны", упоением ею, "разрывом, брешью", вызывающей головокружение, тем, что есть смерть, нескончаемо располагающаяся между двумя несуществующими "прошлым" и "настоящим" в месте исчезновения, неустанно опережающего настоящее где высказывание невозможно.
Эти маленькие трагедии, являясь сценой и зрителем, в локусе которых постоянно разыгрывается комедия непонимания, по сути представляют попытку преступления небытия в смерти... смысла как такового, вернее, значимости его, что очевидно проявляется в удивительном фрагменте "Моцарт и Сальери".
Бессмысленно перечислять нескончаемые интерпретации этой пьесы. Но и по сию пору вызывает недоумение нежелание читать написанное. Лингвистический (многоязычие) слух Пушкина или письменная его память не вызывают сомнений. Можно только вообразить всю широту семантических программ, начиная с фонем... И опятьтаки название, называние, определение: в этой перспективе любопытна драматургия самого имени МОЦАРТ'а - имя, входящее в имя пьесы. Интересна прежде всего риторика удвоенного названия, хотя, конечно, в этот же миг мы упускаем имя Сальери. И всетаки: известно, что согласные "ц" и "с" в заимствованных именах нарицательных в русском --">Книги схожие с «Тень чтения» по жанру, серии, автору или названию:
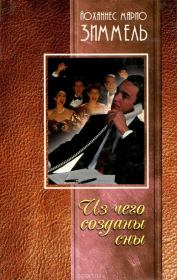 |
| Йоханнес Марио Зиммель - Из чего созданы сны Жанр: Современная проза Год издания: 2003 |
Другие книги автора «Аркадий Драгомощенко»:
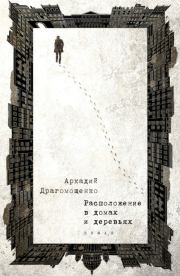 |
| Аркадий Трофимович Драгомощенко - Расположение в домах и деревьях Жанр: Советская проза Год издания: 2019 Серия: Лаборатория |