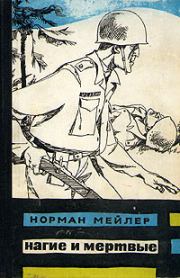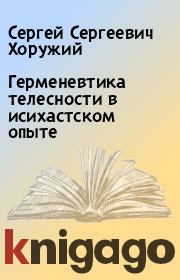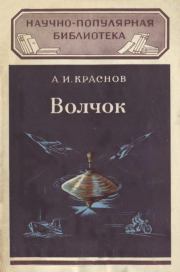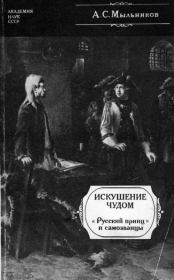Сергей Сергеевич Хоружий - Колючий клад: византийское наследие в его обоюдоострой актуальности
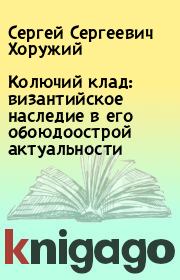 | Название: | Колючий клад: византийское наследие в его обоюдоострой актуальности |
Автор: | Сергей Сергеевич Хоружий | |
Жанр: | Религиоведение, Философия | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Институт Синергийной Антропологии | |
Год издания: | 2012 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Колючий клад: византийское наследие в его обоюдоострой актуальности"
Этот краткий текст — не более чем отрывочные заметки, без всякого притязания на «охват» неохватной темы. Вдобавок, автор — не византолог, и права его высказываться на византийские темы вообще сомнительны. Однако уже и те отдельные стороны феномена Византии, с которыми сталкивали меня мои занятия в философии и антропологии, рождали любопытное, специфическое впечатление, которое я попытаюсь передать: впечатление, что этот феномен сегодня крайне актуален для нас, но в то же время — амбивалентен, так что его актуальность неоднозначна, она одновременно питает разные, едва ли не противоположные тенденции современной отечественной реальности.
Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии"
Читаем онлайн "Колючий клад: византийское наследие в его обоюдоострой актуальности". [Страница - 4]
И все же с развитием науки эта концепция была оставлена, а с нею и целый набор других антивизантийских «предрассудков», по выражению Ж. Дагрона; как он находит, привели к этому «вселенский дух и просто историческая объективность». Разумеется, столкновение религиозности христианской и языческой в конституции византийского государства — имелось, и отрицаться никак не может; однако «равнодействующая» этого столкновения на поверку оказывается иной. Современного научного анализа на базе полного корпуса данных не выдерживают ни представление об обожествлении персоны Императора (вопреки наличию императорского культа), ни утверждение о том, что Император себе присваивал иерейскую харизму (хотя постоянно случались ситуации, которые были на волос от подобного присвоения). Это тонкое «балансирование на грани» Дагрон передает фразой парадоксальной и мастерской: «Ни один византийский правитель не утратил разум настолько, чтобы провозгласить себя «императором и иереем», однако ни один из них не переставал мыслить себя таковым»[9].
Сейчас нас, однако, интересует не столько «преодоление предрассудков», сколько само содержание равнодействующей, истинные место и роль неискорененного язычества в византийской государственности (и других сферах византийского бытия). Пусть за императорским культом в Византии не стояло политической теологии, утверждавшей обоготворение Императора, как в языческих эллинистических монархиях; пусть не было и цезарепапистской узурпации. Но абсолютно невозможно отрицать религиозного, сакрального понимания феномена Империи! Вот уж за нею божественность утверждалась всегда и категорически, она сполна наделялась сакральною санкцией и сакральным закреплением. Уже в самом раннем очерке политической теологии Византии у Евсевия Кесарийского принималось, согласно Ж. Дагрону, что изначально, «в замысле божественного домостроительства Империя уже стала провиденциальным орудием человеческого спасения»[10]. Аналогично пишет и С. Рансимен: Византия — это «империя, конституция которой была основана на чисто религиозном убеждении, что империя есть образ Царства Божия на земле»[11]. И уже понятно отсюда, что «христианство освятило не столько личность императора как таковую, сколько его власть, место, и лишь в связи с этим — самого императора»[12].
Итак, в политической теологии Византии имел место «примат идеи царства по сравнению с идеей царя»: центр тяжести, главная идеологическая нагрузка и главное сакральное обеспечение — не за Императором, а за Империей. Но вот что важно заметить и подчеркнуть: каким бы ни был предмет этого обеспечения, оно было сугубо языческим делом, хотя исполнялось средствами христианской обрядности и языком христианского учения. Ибо христианская, евангельская религиозность не дает почвы не только для обожествления Императора, но и для сакрализации Империи, будь то в форме ее признания «образом Царства Божия» и «провиденциальным орудием спасения» или в форме Юстиниановой «симфонии». Так пишет о. Иоанн Мейендорф: «Как бы добросовестно ни читать Новый Завет, там не найти указания на… «симфонию» между Царством Божиим и «миром сим»; скорее — на напряженность между частными, неадекватными и неполными достижениями --">Книги схожие с «Колючий клад: византийское наследие в его обоюдоострой актуальности» по жанру, серии, автору или названию:
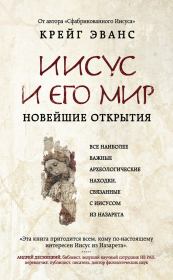 |
| Крейг Эванс - Иисус и его мир. Новейшие открытия Жанр: Детская образовательная литература Год издания: 2015 Серия: Религиозный бестселлер |
Другие книги автора «Сергей Хоружий»:
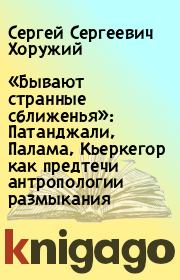 |
| Сергей Сергеевич Хоружий - «Бывают странные сближенья»: Патанджали, Палама, Кьеркегор как предтечи антропологии размыкания Жанр: Философия |
 |
| Сергей Сергеевич Хоружий - Карсавин и де Местр Жанр: Философия Год издания: 1989 |