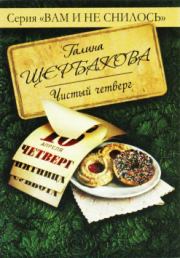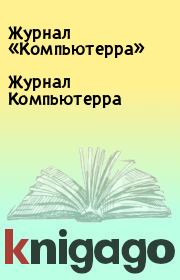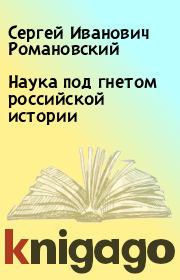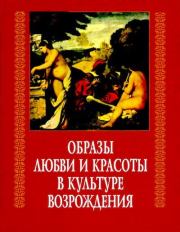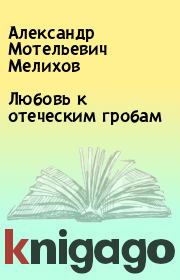Александр Мотельевич Мелихов - Под щитом красоты
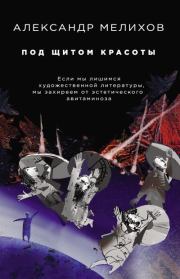 | Название: | Под щитом красоты |
Автор: | Александр Мотельевич Мелихов | |
Жанр: | Культурология и этнография, Языкознание | |
Изадано в серии: | Филологический нон-фикшн | |
Издательство: | Эксмо | |
Год издания: | 2018 | |
ISBN: | 978-5-04-098227-1 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Под щитом красоты"
Великие писатели создают иммунную систему нашей души. Выражаясь более научно, они создают экзистенциальную защиту человечества, окружают его воображаемой атмосферой, в которой сгорают, не долетая до нашего сердца, метеориты обид и утрат. Александр Мелихов рассуждает о том, какой метод защиты от ужаса и безобразия мира приносит тот или иной писатель; кто из них защищает нас красотой, гордостью, юмором, смирением, светлой грустью, чьей защиты хватает на века, а чьей – лишь на одно поколение или даже на один сезон.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: лингвистика,эссе,лингвокультурология
Читаем онлайн "Под щитом красоты". [Страница - 5]
Потом началось исступленное упоение его вольнолюбивой лирой: «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!» – стихия стихов подхватывала и уносила в пространство восторженного безумства, и некогда было вдуматься в разные полупонятности – какая-то «Цитера», какой-то «благородный след того возвышенного галла», все эти мелочи уже остались позади, почти не замеченные, как прежде не замечались игривые намеки: «падут ревнивые одежды на цареградские ковры», «и зачем тебе девица?». В стихах главное не буквальные бухгалтерские уточнения, а вихрь, который тебя увлекает: «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды!»
Я даже и не припомню, когда Пушкин превратился в школьный «предмет», который все проходят и проходят, и никак не пройдут: такое впечатление, что его каждый год начинали «учить» заново. Хуже того, стихи вообще превратились для меня в принудительную принадлежность школьных вечеров худсамодеятельности.
Сегодня я просто не представляю, как бы я выжил без Пушкина. Но в ту пору, в начале шестидесятых, к поэзии обратил меня не Пушкин, а самый громкий тогдашний поэт Евгений Евтушенко. Пушкин не отвечал на «запросы времени», а Евтушенко отвечал. В образе гидроэлектростанции из поэмы «Братская ГЭС» брезжила и победа над природой, и разумная, гуманная, научно обоснованная организация общества, – Пушкину вопросы такой глубины и злободневности, конечно же, не снились! Это сегодня, после бесчисленных экологических и социальных катастроф XX века, уже усвоили – и то не все! – сколь опасна всякая «борьба с природой». А в ту пору мало кто сомневался во всемогуществе не просто человеческого, а именно нашего тогдашнего разума.
Но однажды вдруг застываешь в немом изумлении перед невероятной красотой простейших, казалось бы, строчек:
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льет печальный свет она.
Застываешь не только в изумлении, но и в растерянности: как же совместить пушкинскую гениальность – а это должно быть что-то более или менее вечное! – с его явной отдаленностью от невиданно сложных проблем нашего века? И оказывается, что у Белинского в классическом цикле статей «Сочинения Александра Пушкина» все уже и сказано: Пушкин обладал удивительной способностью делать поэтическими самые прозаические предметы. Действительно, что может быть прозаичней, чем мостить улицы? А у Пушкина вот оно как:
Но уж дробит каменья молот
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.
Лишь для Пушкина поэтическая броня и будничная мостовая стали рядом! И мостовая у него не простая, а «звонкая», а город – так даже «спасенный». Но зато от жизни он отстал уже тогда, сто пятьдесят лет назад, ибо «дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделалось теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего»[1].
Это меня вполне устроило: что правда, то правда – прозу превращать в поэзию он умеет, а удовлетворительных ответов на запросы времени не дает. Принудительное школьное преклонение перед Пушкиным достигло и другой цели – писаревские издевки над легкомыслием и отсталостью Пушкина я читал уже с неким щекочущим удовольствием: «Поэзия Пушкина – уже не поэзия, а только археологический образчик того, что считалось поэзиею в старые годы. Место Пушкина – не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с заржавленными латами и с изломанными аркебузами»[2]. Впрочем, Белинский признавал за Пушкиным еще одно достоинство: «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры»[3]. Более того: «Без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины»[4]. Быть предтечей Гоголя – для --">Книги схожие с «Под щитом красоты» по жанру, серии, автору или названию:
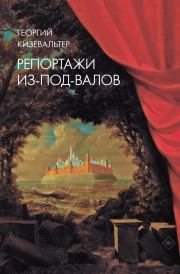 |
| Коллектив авторов, Георгий Кизевальтер - Репортажи из-под-валов. Альтернативная история неофициальной культуры в 1970-х и 1980-х годах в... Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2022 Серия: Критика и эссеистика |
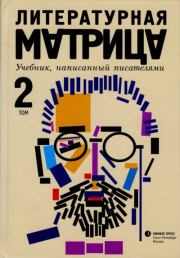 |
| Павел Васильевич Крусанов, Александр Абрамович Кабаков, Ольга Александровна Славникова и др. - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 Жанр: Детская образовательная литература Год издания: 2010 Серия: Литературная матрица |
Другие книги автора «Александр Мелихов»:
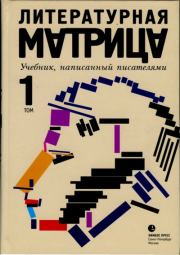 |
| Павел Васильевич Крусанов, Сергей Болмат, Татьяна Владимировна Москвина и др. - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 1 Жанр: Детская образовательная литература Год издания: 2010 Серия: Литературная матрица |
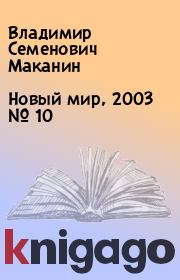 |
| Владимир Семенович Маканин, Александр Исаевич Солженицын, Александр Мотельевич Мелихов и др. - Новый мир, 2003 № 10 Жанр: Современная проза Серия: Журнал «Новый мир» |
 |
| Александр Мотельевич Мелихов - Утилизация Чернобыля Жанр: Публицистика Год издания: 2016 |