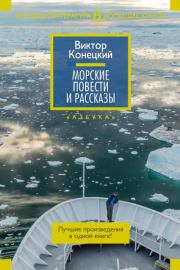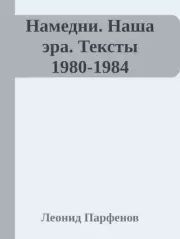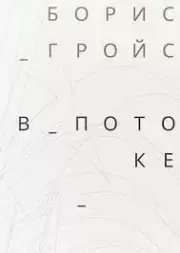Борис Ефимович Гройс - Ранние тексты: 1976-1990
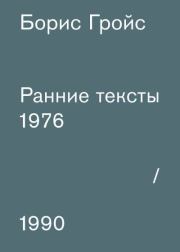 | Название: | Ранние тексты: 1976-1990 |
Автор: | Борис Ефимович Гройс | |
Жанр: | Культурология и этнография, Искусствоведение | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Ранние тексты: 1976-1990"
В книге собраны тексты Бориса Гройса, написанные в период с 1976 по 1990 год, выходившие в ленинградских самиздатских журналах «37» и «Часы» и парижских тамиздатских — «Синтаксис» и «Беседа». В настоящий сборник не вошли статьи из этих журналов, переизданные после перестройки.
Читаем онлайн "Ранние тексты: 1976-1990". [Страница - 257]
Бахтин известен в первую очередь как теоретик «полифонического романа» и как теоретик «карнавала». Обе теории сформулированы им в форме комментариев к романам: первая — к романам Достоевского, вторая — к роману Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Под влиянием Маркса и Фрейда, но прежде всего под влиянием Ницше Бахтин негативно реагирует на русскую авангардистскую формалистическую теорию о господстве автора над материалом художественного творчества, о «принципе сделанности» художественного произведения. Бахтин видит в авангардном акценте на автора продолжение традиционного «монологизма», заключающегося в привилегированном положении авторского голоса в повествовании. Для Бахтина всякое слово есть лишь реплика в бесконечном диалоге всех со всеми, оно всегда изначально отчасти пассивно, отчуждено от говорящего, в нем всегда присутствует «голос другого» — и это относится также и к автору-художнику. Но не только слово как тело мысли несамостоятельно, неавтономно, неаутентично — также и человеческое тело само по себе есть часть единого мирового «гротескного тела»: через свои границы и отверстия оно соединяется со всем материальным в мире, с мировым метаболизмом и мировым эросом, которые и выявляют себя в карнавале, уничтожающем человеческую автономию, нарушающем ее повседневный «хабеас корпус акт». «Полифонический роман», преодолевающий индивидуальное авторство, укореняется Бахтиным в карнавале, рассматривается им как литературное выражение «принципа карнавализации».
Эти бахтинские формулировки ставят, по существу, знак равенства между литературой и жизнью и заставляют видеть в бахтинской литературной теории по необходимости сформулированную эзоповым языком жизненную программу. Отсюда возникает вопрос о политических импликациях бахтинской мысли, которая, особенно в последнее время, обсуждается многими исследователями. В абсолютном большинстве случаев бахтинский «полифонизм» понимается при этом как протест против «монологизма» современной ему сталинской идеологии, а «карнавализм» — как реакция на серьезность и непререкаемость официального советского образа жизни. Бахтин становится, таким образом, глашатаем демократической, подлинно народной альтернативы иерархически организованному тоталитарному государству — единственным русским мыслителем советского периода, сохранившим верность утопии единой общенародной жизни. Единственным упреком Бахтину служит обычно указание на то, что карнавал, хотя и содержит определенный «революционный потенциал», все же вписывается в традиционный общественный порядок и даже в конце концов легитимирует его тем, что дает ритуализированный выход накопившемуся недовольству. Вместе с тем эту недостаточную революционность Бахтина вполне прощают ему, учитывая цензурные обстоятельства того времени, и поэтому Бахтин в основном сохраняет свой ореол последовательно антитоталитарного мыслителя.
Между тем Бахтин если на чем и настаивает, то именно на тотальности карнавала, весь пафос которого состоит в разрушении автономии человеческого тела и существования: карнавал общенароден (народность, кстати, характерное понятие именно сталинской культуры, сменившее «классовость»). Либерализм и демократизм в обычном их понимании вызывают у Бахтина резкую антипатию: они являются для него синонимами автономизации, самозамыкания индивидуальности, отрыва ее от единой космической жизни и, соответственно, причинами возникновения пафоса серьезности, морализаторства и упадка юмора и карнавала. Бахтин с ликующими интонациями передает раблезианские описания ужасающих карнавальных побоищ, «забрасывание веселой материей — калом и заливание мочой», ритуалы карнавальных оскорблений, «развенчаний и увенчаний», образы карнавальной торжествующей Смерти, символизирующей народную радость по поводу «гибели всего мертвого и отжившего». Он
--">Книги схожие с «Ранние тексты: 1976-1990» по жанру, серии, автору или названию:
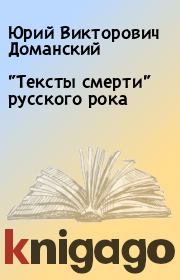 |
| Юрий Викторович Доманский - "Тексты смерти" русского рока Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2000 |
Другие книги автора «Борис Гройс»:
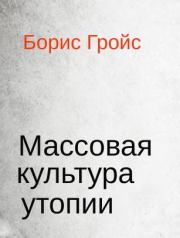 |
| Борис Ефимович Гройс - Массовая культура утопии Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2003 |
 |
| Борис Ефимович Гройс - Статьи об Илье Кабакове Жанр: Критика Год издания: 2016 |