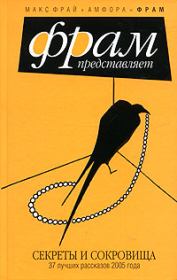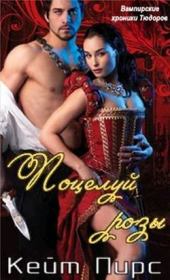Виталий Яковлевич Виленкин - В сто первом зеркале (Анна Ахматова)
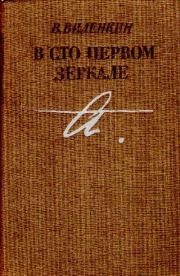 | Название: | В сто первом зеркале (Анна Ахматова) |
Автор: | Виталий Яковлевич Виленкин | |
Жанр: | Литературоведение (Филология) | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "В сто первом зеркале (Анна Ахматова)"
https://i123.fastpic.org/big/2024/0319/bf/29184a15e6f365168edfa5c7e39e03bf.jpg
«В ста зеркалах» — так назвала Анна Ахматова альбом посвященных ей стихов. Книга В. Виленкина — это как бы сто первое зеркало, в котором отразились личность и грани творческого мира большого поэта. Автор делится своими воспоминаниями о встречах с А. Ахматовой и размышляет об истоках, некоторых мотивах и характерных чертах ее поэзии.
Читаем онлайн "В сто первом зеркале (Анна Ахматова)". [Страница - 100]
тайный
хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи».
Слова эти нам уже знакомы и памятны. Но сейчас, когда
1 Ср.: А я дописываю «Нечет»
Опять в предпесенной тоске (1942).
310
мы подходим к концу нашего вчитывания в «Поэму
без героя», они приобретают для нас новую значитель
ность и весомость.
Вступительная ремарка уже не объявляет нам, как в
«Петербургской повести», программу открываемой ею
части. Она говорит только о том, что диктовало создание
«Эпилога», о том, что было окружающим его воздухом.
Главные действующие лица подтекста — время и прост
ранство. Прощание автора с Городом настроено, как ка
мертоном, пронизывающей эту «прозу поэта» болью:
«Белая ночь 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От
Гавани до Смольного видно все как на ладони. Кое-где до
горают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут
липы и поет соловей. Одно окно третьего этажа (перед ко
торым увечный клен) выбито, и за ним зияет черная пусто
та. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в
общем тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч
километров, произносит:
Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей,—
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей,
Где, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью, тянет он...
Трудно заставить себя остановиться, чтобы предоста
вить читателю самому продолжить до конца чтение поэмы:
трудно, очевидно, потому, что строфы «Эпилога», как бы
сами собой выливаясь из прозаического вступления, текут
таким непрерываемым, таким единым потоком. Только
один раз и сюда проникают строки «лирического отступле
ния», как бы предваряющего приближение «гремящего
тоннелями и мостами» Урала. За Уралом открывается
...та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
311
И был долог путь погребельный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
Этому предшествуют в авторской рукописи строфы
«Эпилога», место которых — после строки «В опаленных
наших лесах»:
А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей,
Я не знаю, который год,
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были.
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой
Суждено охранять его,
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса своего...
Эти строфы связаны с темой и нравственной пробле
матикой «Решки». И все же, мне кажется, здесь, в
«Эпилоге», они — уже реминисценция, какой бы необходи
мой и трагически значительной она ни была. Не этот
курсив определяет самое главное в том, что хочет под
конец поэмы сказать нам «голос автора, находящегося
за семь тысяч километров». Сейчас же вслед за послед
ним «отступлением» это самое главное вступает в полную
силу и звучит признаньем, рыданьем, клятвой:
А не ставший моей могилой
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.
Все, что сказано в Первой части
О любви, измене и страсти,
312
Сбросил с крыльев свободный стих,
И стоит мой Город «зашитый»...
Тяжелы надгробные плиты
На бессонных очах твоих.
Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц...
Над тобой — лишь твоих прелестниц
Белых ноченек хоровод.
Не только далекую драму «любви, измены и страсти»,
происшедшую в Петербурге 1913 года, «сбросил с крыльев
свободный стих», но даже и разбуженное этим воспоми
нанием мучительное эхо совести. Великая народная тра
гедия войны разогнала призраки «мертвой листвы» прош
лого, вдребезги разбила зеркала и надолго оторвала от
«Зазеркалий». Не только «город в развалинах», но мир
в развалинах встает за траурно-патетическими строками
финала поэмы. Гармонии апофеоза он с собой не приносит.
Трагической «Поэма без героя» остается до конца. До
конца продолжает вращаться и затягивать в --">
хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи».
Слова эти нам уже знакомы и памятны. Но сейчас, когда
1 Ср.: А я дописываю «Нечет»
Опять в предпесенной тоске (1942).
310
мы подходим к концу нашего вчитывания в «Поэму
без героя», они приобретают для нас новую значитель
ность и весомость.
Вступительная ремарка уже не объявляет нам, как в
«Петербургской повести», программу открываемой ею
части. Она говорит только о том, что диктовало создание
«Эпилога», о том, что было окружающим его воздухом.
Главные действующие лица подтекста — время и прост
ранство. Прощание автора с Городом настроено, как ка
мертоном, пронизывающей эту «прозу поэта» болью:
«Белая ночь 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От
Гавани до Смольного видно все как на ладони. Кое-где до
горают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут
липы и поет соловей. Одно окно третьего этажа (перед ко
торым увечный клен) выбито, и за ним зияет черная пусто
та. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в
общем тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч
километров, произносит:
Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей,—
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей,
Где, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью, тянет он...
Трудно заставить себя остановиться, чтобы предоста
вить читателю самому продолжить до конца чтение поэмы:
трудно, очевидно, потому, что строфы «Эпилога», как бы
сами собой выливаясь из прозаического вступления, текут
таким непрерываемым, таким единым потоком. Только
один раз и сюда проникают строки «лирического отступле
ния», как бы предваряющего приближение «гремящего
тоннелями и мостами» Урала. За Уралом открывается
...та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
311
И был долог путь погребельный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
Этому предшествуют в авторской рукописи строфы
«Эпилога», место которых — после строки «В опаленных
наших лесах»:
А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей,
Я не знаю, который год,
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были.
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой
Суждено охранять его,
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса своего...
Эти строфы связаны с темой и нравственной пробле
матикой «Решки». И все же, мне кажется, здесь, в
«Эпилоге», они — уже реминисценция, какой бы необходи
мой и трагически значительной она ни была. Не этот
курсив определяет самое главное в том, что хочет под
конец поэмы сказать нам «голос автора, находящегося
за семь тысяч километров». Сейчас же вслед за послед
ним «отступлением» это самое главное вступает в полную
силу и звучит признаньем, рыданьем, клятвой:
А не ставший моей могилой
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.
Все, что сказано в Первой части
О любви, измене и страсти,
312
Сбросил с крыльев свободный стих,
И стоит мой Город «зашитый»...
Тяжелы надгробные плиты
На бессонных очах твоих.
Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц...
Над тобой — лишь твоих прелестниц
Белых ноченек хоровод.
Не только далекую драму «любви, измены и страсти»,
происшедшую в Петербурге 1913 года, «сбросил с крыльев
свободный стих», но даже и разбуженное этим воспоми
нанием мучительное эхо совести. Великая народная тра
гедия войны разогнала призраки «мертвой листвы» прош
лого, вдребезги разбила зеркала и надолго оторвала от
«Зазеркалий». Не только «город в развалинах», но мир
в развалинах встает за траурно-патетическими строками
финала поэмы. Гармонии апофеоза он с собой не приносит.
Трагической «Поэма без героя» остается до конца. До
конца продолжает вращаться и затягивать в --">
Книги схожие с «В сто первом зеркале (Анна Ахматова)» по жанру, серии, автору или названию:
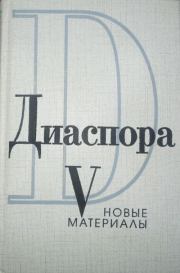 |
| Георгий Викторович Адамович, Юрий Павлович Иваск - Сто писем Георгия Адамовича к Юрию Иваску Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 2003 |
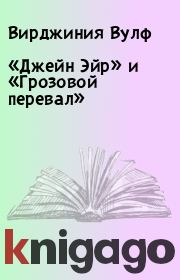 |
| Вирджиния Вулф - «Джейн Эйр» и «Грозовой перевал» Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 1989 |
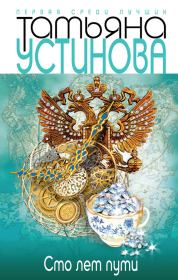 |
| Татьяна Витальевна Устинова - Сто лет пути Жанр: Детектив Год издания: 2014 |
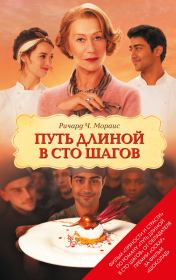 |
| Ричард Ч Мораис - Путь длиной в сто шагов Жанр: Современная проза Год издания: 2014 |